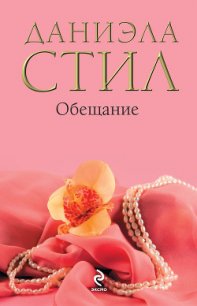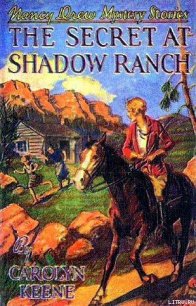Печать ангела - Хьюстон Нэнси (читать книги бесплатно полностью TXT) 📗
Долгая пауза.
Андраш не говорит ни слова, ни слова, ни слова.
По каналу медленно плывут баржи, задевая порой пешеходные мостики в форме перевернутой буквы V. Эмиль смотрит во все глаза. То и дело коротко вскрикивает: “О!” – тихонько, как бы про себя.
В это время кое-кто проходит по набережной на другой стороне: это Мишель, у которой Саффи жила в начале беременности. Она идет из больницы Святого Людовика, где ей только что сообщили неприятную новость: у ее младшего ребенка (мальчика, не той девочки, в чьей комнате поселили тогда Саффи) почечная недостаточность. Мишель идет, опустив голову, занятая своими тревожными мыслями, а глаза Саффи устремлены в серые волны прошлого, так что две женщины друг друга не видят. Такое случается сплошь и рядом. Мы удивляемся неожиданным встречам, невероятным совпадениям. “Как тесен мир!” – восклицаем всякий раз… но на самом деле в жизни куда больше таких вот невстреч и не-совсем-совпадений: разминуться ведь легче.
– А потом, – рассказывает дальше Саффи, – после войны… как тебе объяснить… Ты знаешь, ты был в Будапеште, но… ты не можешь знать.
После долгого молчания она продолжает еще тише:
– Мы пьем страх. Мы едим смерть. Мы дышим… как это сказать… Blei, свинцом. Тяжело, так тяжело! Нас душит тишина. В доме все молчат. Mutti умерла. Дети хотят есть. Все хотят есть. Мы живем в подвале нашего дома, а наверху французы. Как можно это все понять? Маленькие не понимают. Почему мы живем в подвале, а не в доме? Почему на полу вода по щиколотку? Почему у нас нет лекарств, нет одежды, нет еды, ничего нет? Куда ушла Mutti? Почему солдаты на улице смеются над Vati, и толкают его, и плюются жевательной резинкой? Никто не разговаривает. Фрау Зильбер открывает рот только для команд и для молитв. Такое напряжение… schrecklich, ужасное… Андраш, ты понимаешь?
Андраш держит ладошку Саффи в кармане своего плаща, чтобы согреть. Он поглаживает ее большим пальцем левой руки и молчит.
– Ну вот… и люди, потому что всем нечего есть, не могут кормить своих животных, и они приходят с ними к нам. К моему отцу… К нам стоит очередь, у всех животные, которых надо убить, у кого в клетке, у кого в корзинке, у кого на руках, и они даже не больные, бедняжки! Они просто хотят есть, как и мы! Мне было девять лет, и я видела, как все приходили в слезах с кошками, собаками, хомячками… А потом они оставляли их нам. Не хотели забирать домой. У них и так уже хватало мертвых. Вот Vati и хоронил их каждый вечер в саду за домом. Лопатой копал ямы на лужайке, бросал туда животных и засыпал их землей. Молча. Он никогда об этом не говорил. Наверно, ему было тяжело. Но я… я не могу…
Саффи судорожно сглатывает. Не дает голосу взвиться до визгливых истерических нот.
– Я не могла оставить их так! Ну вот, и потом, вечером… я пела песенки животным, которых похоронил отец. Один раз… это было в августе, солнце садилось… очень большая собака, отец сделал ей укол цианида… и она бегала по всему саду, туда-сюда, и у нее… знаешь… пена капала изо рта… Потом она наконец упала и дышала так громко…
Снова Саффи приходится сделать над собой усилие.
– А я, чтобы помочь ей умереть, пела колыбельную песенку, ее пела нам мама во время бомбежек… Вот, послушай…
Она поет тихо, но голос все-таки невольно срывается, слезы подступают и катятся из глаз, она нетерпеливо смахивает их рукой и продолжает петь. Андраш должен понять, должен, иначе им не вписаться в поворот.
– Guten Abend, Gute Nacht, Mit Rosen bedacht, Mit Nelken besteckt, husch, unter die Deck. Morgen frьh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt…
Ей так тошно, что она останавливается, не допев припева.
– Ты понимаешь, Андраш?
Он понимает. Еще как понимает. Эта колыбельная Брамса воплощает все, что ему ненавистно в немецкой душе, слащаво-набожной и покорной. Но он по-прежнему молчит. Не кивает и не качает головой. Больше не гладит пальцем ее руку, руку немки.
– Это значит… – Она запинается, ищет слова: “Добрый вечер… доброй ночи… в постель из роз и… не знаю, как называется другой цветок… Забирайся… под одеяло… Завтра утром… – она опять плачет, – если будет угодно Богу, ты проснешься снова”. Это так страшно, ты понимаешь? Потому что цветы растут в саду, то есть, если детям поют эту песню, это значит, что они умрут. Когда я ложилась в кровать, каждый вечер я как будто забиралась в могилу. И мне снилось, что цветы на моем одеяле перемешиваются и начинают гнить…
Саффи утыкается лицом в габардиновый плащ Андраша – но тотчас отстраняется: она еще не все сказала.
– Часто, Андраш… животные были плохо зарыты… Понимаешь, отцу было тяжело, он не мог рыть глубокие ямы… Земля ворочалась, и все было видно, высовывались лапы… Я выходила в сад и ступала… как будто по толстому ковру из трупов.
Она уже не может превозмочь тошноту – рассказ окончен. Теперь на теле Андраша, на его затылке, на руках и на груди, на спине Андраша встают дыбом все волоски. Это не сочувствие, нет – скорее, реакция. Рассказ Саффи напомнил ему о других наспех засыпанных трупах – только это были трупы евреев, а не домашних животных. Андраш читает все – ничего не может с собой поделать, все подряд читает, – читал и это, описание такой же сцены, один к одному, вышедшее из-под пера великого писателя – советского писателя Василия Гроссмана. Сразу после войны он рассказал о том, что сделали с евреями в его родном городке Бердичеве на Украине. Их заставили самих копать себе могилы, в которые потом сбросили всех вповалку, убитых выстрелами в затылок. Пять огромных рвов с мертвыми евреями – все евреи городка, несколько сотен, в их числе была и родная мать Гроссмана. А потом – те же слова: ворочалась земля, трупы в ней вспухали, шевелились, кровоточили, и она трескалась под их напором. Глинистая бердичевская почва не могла впитать столько влаги, и кровь евреев текла по земле, приходилось шлепать по лужам крови; немцы приказали местным крестьянам снова засыпать рвы землей, это пришлось делать еще раз и еще, потому что каждый раз земля набухала, и разверзалась, и опять истекала потоками крови…
Они и не заметили, как сырой холод пробрался под одежду. Они замерзли. Окоченели от холода и от страшных картин, которые снова не дают им покоя. Они не разговаривают больше, Саффи и Андраш. Оба забыли, что они вместе на берегу канала Сен-Мартен, в городе Париже, январским днем 1959 года. Они почти потеряли друг друга в эти минуты: каждый тонет в крови своей памяти, опустошенный, без надежд и желаний, один в незыблемом океане горя.
Как хорошо, что есть Эмиль.
У него свои дела, он какает: все его личико сморщилось и побагровело от натуги. В глазах стоят слезы.
– Ох! – восклицает Андраш и встает. – Нашел время, мальчик мой! Так далеко от дома вздумал выложить все! Тебе обязательно нужно, чтобы мы с твоей мамой сидели по уши в дерьме?
Они спешат назад в мастерскую, не разговаривая, но снова близкие, держатся за руки и вместе катят коляску.
XII
В мастерской Андраша зимой не переводятся гости, и немудрено: здесь можно погреться, от печки, когда есть уголь, и всегда – от сердечного тепла и музыки. У него засиживаются, попивая чай или подогретое вино, опробуя разные музыкальные инструменты, беседуя на своих языках и на ломаном французском, американские джазмены, еврейские скрипачи, что играют у Гольденберга (Саффи странно слышать идиш, так похожий на немецкий язык), проститутки и трансвеститы из заведения в доме 34 (которым заправляет в нарушение закона жена полицейского), беженцы из Восточной Европы, совсем еще новички в Париже… и уж конечно частая гостья – мадам Блюменталь, дебелая вдовушка с больным сердцем: она живет на седьмом этаже и заходит к Андрашу каждый день около двенадцати, когда несет домой две сетки с покупками, чтобы присесть и собраться с силами перед трудным подъемом… Кажется, все на свете знают дорогу в мастерскую по ремонту духовых инструментов.