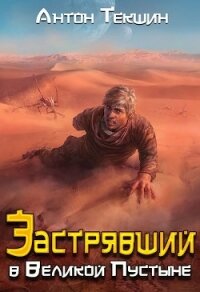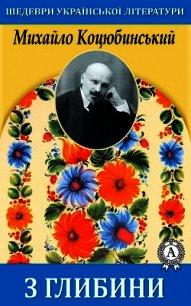Кто я для себя - Пантич Михайло (полные книги .TXT, .FB2) 📗
Он присел на стул, который почему-то не опрокинулся, и, внимая тишине, вспомнил один случай, которому никогда не суждено было превратиться в пьесу. История хорошая и занимательная, достойная того, чтобы поведать ее, пусть и не вдаваясь в подробности. Не Боккаччо, не Шекспир, хотя, на первый взгляд, похоже, впрочем, нет, не похоже. Джурович на пути к своему Да устал от назойливого мелькания величайшего из великих, а также от выскочек, дельцов от театра, которые, расталкивая друг друга локтями и прикрываясь великим именем и так называемым новым прочтением или бессмысленной «интерпретацией», извлекали и выставляли возвышенное на поругание надутым патологическим эгоцентрикам, для которых единственным условием сохранения собственной многозначительности было наличие кого-то из великих рядом, как… как, прости господи, охотник на рогатую дичь.
Потому что, когда я говорю о Шекспире, я и сам становлюсь Шекспиром.
Естественно. О да, разумеется.
И хотя это и не Шекспир, и не Боккаччо, а могло бы так случиться, что эта история всплыла откуда-то из тех времен, случайно, о чем не следует особо распространяться. Он услышал ее много лет тому назад от своего старого пражского профессора, исследователя драматургии эпохи Возрождения, который изрядную часть своей жизни провел в архиве знаменитого средиземноморского города, занимаясь историческими изысканиями, как на золотых приисках, и это вовсе не метафора, а самая что ни на есть правда: история — это золото, наваждение и озарение одновременно, одного без другого не бывает. Джуровича эта история привлекала как раз потому, что во всем его превосходила. Да, да, суть остается недосказанной и невыраженной только в тех рассказах, которые с трудом можно поставить на сцене. С трудом, либо вообще никак. Ибо любовь всегда сильней холодного рассудка, любовь с рассудком редко живут в ладу, они друг в друге не нуждаются. А когда по воле случая они соединяются, то перестают быть тем, чем на самом деле являются, и уже рассудок не рассудок, и лю…
Так вот.
Много столетий назад жил в одном городе знатный молодой дворянин, отпрыск уважаемого древнего рода, и мог он выбрать невесту себе под стать. Но нет, не тут-то было, засмотрелся он на бедную горожанку, красавицу, самую младшую из четырех сестер, в доме у которых и на добрый обед не было, а не то, что на богатое приданое. Однако они обручились, сказали друг другу Да, и ничто не могло эту клятву нарушить, ни то, что богатый отец того дворянина отправил околдованного любовью сына в кругосветное плавание, мол пусть земной шар обогнет, мир посмотрит, привезет цветок камелии и когда остынет от сердечной страсти, женится на ровне, и ни то, что отец отослал всех четырех дочерей-красавиц в монастырь, чтобы вместо сына человеческого возлюбили они Сына Божьего и Девы Марии. Прошли годы, возмужавший и уже не столь юный дворянин вернулся домой, похоронил родителей, вступил в наследство и, сгорая тайной страстью, разузнал, где его суженая. Да она же вместе с сестрами в монастыре, у самых городских стен, перед извечным выбором умереть или связать себя безбрачия обетом. Он послал ей весточку и вскоре получил ответ. Она ждала, молилась за него и призывала к себе, — тому, кто ждет, в урочный час приходит все. Она назначила ему свидание у боковых ворот, у скрытого в ночи узкого прохода, спустила веревку, и он поднялся, спеша навстречу объятиям своей возлюбленной. Никто с уверенностью не мог сказать, сколько дней и лет это продолжалось, в архиве сохранился лишь донос соглядатая, что знатный господин, — во всяком случае, так рассказывали об этом деле, — любовь свою дарил и сестрам своей избранницы до тех пор, пока одна из них не понесла, и наказание настигло грешников. Церковные власти провели тщательное дознание, которое грозило остракизмом и постригом, клеймением, изгнанием, отлучением от церкви и даже сожжением на костре, а потом была устроена засада, дабы человека, видевшего Сулавеси, схватить in flagranti и подвергнуть заслуженному наказанию.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})По другой версии, также не стоящей особого упоминания, бывший мореплаватель по какой-то причине не смог в назначенный вечер явиться на свидание со своими возлюбленными и попросил своего лучшего друга пойти вместо него. Ждет тебя рай, должно быть, объяснил он ему, однако лучшего друга встретили стражники, скрутили, как только он перелез через ограду, и тут же, в назидание другим, не спрашивая, ни кто он, ни откуда, ни как здесь оказался, отрубили ему голову. Спустя минуту окровавленная голова вылетела из окна, словно мячик, и покатилась по брусчатке в сточную канаву. На утро третьего дня избранница дворянина вместе со своими сестрами была замурована в нижних покоях, чтобы в молитвах и слезах провести здесь остаток дней своих, а пару месяцев спустя после кровавого события новорожденное дитя было оставлено в корзине для сбора винной ягоды на крыльце сиротского приюта…
Через тридцать лет по тем же городским улицам бродил бездомный, похожий, как две капли воды, или, как говорили местные, вылитый, тот самый молодой дворянин, который в ту же злосчастную ночь, при известии о смерти друга, повесился. Готовый сюжет о любви и смерти, о свете и проклятии, о неисповедимых путях любви, каковыми должны быть все настоящие истории на этом свете, подобные тем, что с легкостью сочинял знаменитый муж Анны, тот самый, что завещал ей «вторую по качеству» кровать.[43] Об этом рассказал Джуровичу его профессор, и, не дав времени расспросить его о подробностях, сам канул в вечность, где всем нам, увы и ах, в конце концов, придется расстаться со своей тенью.
Сидел режиссер Джурович, погрузившись в тишину и думая о том, что он никогда не сможет, не сумеет, не получится у него написать такую пьесу по сотне объяснимых и тысяче и одной необъяснимой причине. Тот, кому лишь однажды удалось создать нечто подобное, родился под небом Стратфорда.
Так просидел Джурович всю ночь, не заметив, как рассвело. В августе, а это каждому лунатику известно, ночь все еще короче дня. Придя в себя, принялся он мерить шагами сад летнего дворца старого князя и оказался у открытых настежь чугунных ворот. Ранним утром еще спящий город коротко блеснул редким сиянием умытых фасадов, прежде чем самый длинный месяц года, да, да, тот самый, что кичится именем императора, словно ни вчера, ни позавчера ничего не происходило, продолжил бесноваться зноем, от которого закипает мозг, а его владелец и без того имеющий склонность к разному вздору, начинает погружаться в галлюцинации сверх всякой меры. И все, что случилось минувшим вечером, включая сам спектакль, который, н-да, хотя и был прерван, продолжился, казалось Джуровичу обманом зрения.
И тут, кто бы знал почему, он повернулся и той же дорогой возвратился в сад. Прошел через ворота, через которые он всего несколько минут назад вышел, обогнул лужу, где не было ни его отражения, ни тени, потому что свет падал с противоположной стороны, огляделся, словно ожидая, что, откуда ни возьмись, явится тот самый молодой дворянин в сопровождении друга, четырех сестер и того оборванца, дворянского сына, выйдет на опустевшую и оставленную в беспорядке сцену, повернется в тишине опустевшего театра и поклонится незримой публике. Но ничего не произошло, лишь парочка горлиц, птиц, которые до гроба верны своим спутникам жизни, поклевывали кизяки осла, которого должны были в нужный момент вывести на сцену, однако на вчерашнем спектакле до этого дело не дошло, и сразу после антракта хозяин загнал его в фургон и отвез, куда следовало. На сцене валялся разбросанный реквизит. В глубине двора у ограды пребывал в одиночестве большой старый якорь, знак того, что и отсюда кто-то когда-то выходил в море, и хранили молчание два древних разоренных саркофага, кто его знает, откуда и зачем оказавшихся в этом месте.
Режиссер Джурович оглянулся еще раз, будто проверяя, не спрятался ли кто в потаенных уголках княжеского сада. И, убедившись, что никого нет, вышел на сцену. Затем поклонился пустому зрительному залу, чтобы в следующий миг услышать самого себя, произносящего невесть откуда взявшееся, из каких глубин сознания и подсознания, короткое, гортанное, но очень громкое: