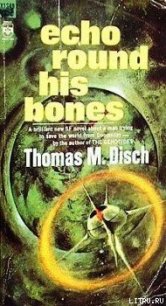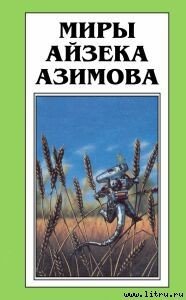Крутые парни не танцуют - Мейлер Норман (книга регистрации .TXT) 📗
Ридженси изучал нашу мебель. Слова «чокнутый гомик» еще курились у его губ. Я не мог оставить этого так.
— Почему вы решили, что Пангборн был гомосексуалистом?
— Я бы сказал иначе. Я бы назвал его голубком. — Это прозвучало издевательски. — В таких случаях надо говорить «синдром Капози». — Он вынул из кармана какое-то письмо. — Называют себя голубками, а сами только и знают, что заражать друг друга. Валяются в дерьме, как свиньи.
— Ну-ну, — сказал я. — Все мы свиньи — и вы, и я. — Его слова разбудили во мне боевой пыл, и я охотно поспорил бы с ним на эту тему — ядерное загрязнение на моей стороне, герпес на его, — но не сейчас.
— Посмотрите, что в этом конверте, — сказал он. — Кем был Пангборн — голубым или синим? Прочтите, прочтите!
— А это точно написал он?
— Я проверил почерк по его записной книжке. Он, кто же еще. С месяц назад. Там стоит дата. Правда, так и не отослал. Наверное, сделал глупость — перечитал свое письмецо. Этого достаточно, чтобы сунуть себе в рот дуло и вышибить мозги.
— Кому он писал?
— Вы же знаете этих гомиков. Они друг с другом такие ласковые, именами себя не утруждают. Изливают душу, и все. Может, под конец и назовут разок имя. Чтобы цветочек, которому адресовано послание, знал, что грязь попала в нужный горшок. — Он визгливо захихикал, по своему обыкновению.
Я прочел письмо. Оно было написано яркими фиолетовыми чернилами, круглым твердым почерком.
«Только что перелистал томик твоих стихов. Я вряд ли умею по-настоящему ценить поэзию и классическую музыку, зато знаю, что я люблю. Я люблю, когда симфонии рождаются в интимных органах. Люблю Сибелиуса, и Сен-Санса, и Шуберта, и всех остальных на букву „Ш“. Я знаю, что люблю твои стихи, поскольку меня тянет ответить тебе письмом, чтоб заставить тебя задрожать, блядь. Знаю, ты ненавидишь мою вульгарность, но давай не будем забывать, что Лонни — уличный мальчишка, которому пришлось-таки поднапрячься, чтобы охомутать вожделенную богатую невесточку. Впрочем, кто кого охомутал?
Мне понравилось твое стихотворение «Растраченный», потому что оно вызвало у меня сочувствие к тебе. Вот он ты, насосавшийся, как клоп, борющийся со своими комплексами, запертый в этой ужасной камере; ну что же, ты ведь тянул срок, а я был во Вьетнаме, ходил дозором по Китайскому морю [16]. Знаешь, какие там закаты? Ты так чудесно описываешь радугу, встающую перед твоими глазами после того, как ты «растратился», но я-то жил этими радугами. Как ясно вспоминаются благодаря твоим строчкам роскошные месяцы, растраченные мной в Сайгоне на секс, да, милый, «растраченные»! Ты пишешь о громилах вокруг себя и говоришь мне, читателю: «У них не души, а костры; к ним близко не подходи — иначе обожжешься». Вот что, дружок: это верно не только для твоих криминальных типов. Я думал то же самое о многих своих приятелях-моряках. У многих костерков погрел я лицо и руки. Ты чуть не свихнулся, не позволяя себе делать что хотел, но ты-то ведь у нас джентльмен. В некотором роде. Но я искал и нашел . Я соблазнял всех без разбору, я — потаскуха мужского пола. Как цирковой поросенок, насыщался из огромной бутыли с длинной резиновой соской. Нет, Лонни не рехнулся, спасибо. У него хватило ума выжать из своего порока все до последней капли.
Как много ты потерял, не побывав в этих китайских морях. Я помню черноглазого вьетнамца, который подходил к нашему бараку под Данангом и ласково звал: «Лонни, детка, вылезай!» Помню высокого тонкого блондина из Бомонта, Техас, который принес мне свои письма к жене. Она собиралась его бросить, а я должен был прочесть письмо, я был его цензором , и как он томился у входа в офицерский отсек, ожидая темноты, и это было так здорово, что он все говорил о своей птицеферме, пока я не протянул руку и не начат ласкать его, и он улегся и затих, и знаешь ли, милый, у него пропала охота спрашивать про свою ферму до следующего вечера, когда он бродил у офицерского отсека, пока опять не стемнело и я, голодный, не утолил его голода. Помню и славного паренька из Ипсиланти по имени Торн и вкус напоенного любовью хереса у него во рту, эти прелестные глаза, его застенчивость и нежный, неуклюжий, жалкий стиль его милого письма с ошибками шестиклассника — он написал его в тот день, когда я покидал корабль, и поднялся на мостик с конвертом.
Или связист из Мэриона, Иллинойс, который просигналил мне первое любовное послание флажками, не ожидая, что я разберу его на такой скорости. «Эй, лапка, как насчет нас с тобой сегодня на моей лодке?» И мой ответ: «Во сколько, лапка?» До сих пор помню его удивленное лицо. И его восхитительный аромат — запах пота и «Аква-велвы».
Как много приводят на память твои стихи! Волшебная была пора! Ни тебе адвокатских бумаг. Ни мальчиков-мажоров — не прими на свой счет, — которым надо лизать жопу. Только адмиралы да морская пехота. Жаль, что ты никогда не знал моряка. Или «зеленого берета». Они зеленые, душка, но не стреляй, пока не увидишь их розовые приборчики! У меня сто лет не было досуга, чтобы подумать об этих вещах, но теперь наконец-то! Спасибо твоим стихам. Я думаю о санитаре из Центрального госпиталя, которого встретил в «Синем слоне» на Сайгонском бульваре, и вспоминаю номер в одной полуразграбленной гостинице, куда я затащил его потом, и его великолепное извержение, — а потом он принял меня, чтобы глотнуть немного самому и утолить великую жажду, вызванную этим залпом. И как он искал имя на моей шляпе, чтобы увидеться со мной снова, но я не хотел этого и так ему и сказал. Зарылся носом в его постель, и ее безумный аромат снова вышиб из моей головы всякое разумение.
Да, в них пылали костры, и атмосфера была полна жаркой истомы. Легионы огромных, призывных, истекающих каплями красавцев, яростно-алых, как борода индюка, чудные, чудные, славные деньки, пока ты отдыхал в Редингской тюрьме [17], бедняжка Уодли, и старался не съехать с катушек, борясь с желанием сделать то, к чему звала тебя твоя душа.
Пожалуй, я больше не стану читать твои прекрасные стихи. Ты видишь, какую печаль они вызывают. Никогда не отталкивай такого дорогого друга, как я, а то смотри, потеряешь меня навсегда. Впрочем, уже потерял!!! На сей раз это не мальчишка из военно-воздушных сил, подцепленный на один уик-энд, и не баптист-голуба, которого я обхаживаю ох как осторожно, хоть он всем сердцем жаждет неосторожности; нет, у меня сюрприз всех времен, Уодли. Я теперь с блондинкой. Думаешь, я пьян вдребезги? Ну да.
Но не бойся. Эта милка выглядит женщиной до мозга костей, как Лана Тернер, хотя, может, это и не совсем так. Может, она сменила пол. Поверишь ли? Один из наших общих приятелей увидел ее со мной и имел пакость сказать: она так великолепна, что похожа на подделку. Может быть, в прошлом это не она, а он? — спросили меня. Нет, вынужден вас огорчить, сказал я; ничего подобного. Это самая натуральная женщина, хрен тебе! Вот что ответил я нашему общему другу. Честно говоря, это первая моя женщина с тех пор, как я окрутил свою богатую наследницу с ее цепью дешевых магазинов. Поэтому я знаю, что такое цепи. Терпел их много лет. И скажу тебе, Уодли, это рай — освободиться от них. С этой новой самкой упоительно, как на Сайгонском бульваре: настоящий плотско-блядско-адско-развратнейший рай для петуха — или надо сказать, бывшего петуха? — вроде меня. Какое наслаждение — преодолеть великую пропасть! Уодли, для этой женщины я — мужчина. Она говорит, что не знала никого лучше. Детка, ты не поверишь, какие силы во мне проснулись. Завод есть завод, но я заведен до отказа. Если кто-нибудь попытается отбить мою блондинку, я и прикончить могу.
Понимаешь, о чем я? Вот оно, счастье! Но с чего бы тебе расстраиваться? Ты ведь тоже прошел через это, правда, Уодли? Жил со своей светловолосой красавицей. Ладно, проехали. Раньше мы были братьями по духу, так останемся же добрыми сырыми друзьями. Подписываюсь: мечта женщин, всегда твой Лонни.
16
Имеется в виду Южно-Китайское морс.
17
«Редингская тюрьма» — поэма Оскара Уайльда; он отбывал в этой тюрьме срок по обвинению в гомосексуализме.