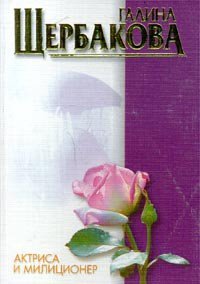Актриса и милиционер - Щербакова Галина Николаевна (лучшие книги читать онлайн .txt) 📗
МЕМОРИЯ
Это безусловное преувеличение. Потому что прошло всего ничего — двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут пока еще, если взять на круг, несколько больше. Тут ведь главное — пережить какие-то критические годы: тридцать семь там, или сорок два, или критически-менструальные дни страны — войны, революции, перестройки, а также другие явления типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан». Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати шести. И спасибо ей.
Ровно столько лет тому театр Норы был на гастролях в Ленинграде. Вадим был там в командировке, и они жили — так, видимо, встали звезды — в одной гостинице. Если идти по коридору от вперед смотрящей дежурной по этажу, то Норина комната была третьей направо, а его — третьей налево. Но это выяснилось потом, потом…
Сначала командировочный пошел в театр, куда можно было попасть. В не самый престижный гастролирующий московский театр. Билеты перед самым началом в кассе были. Рубль пятьдесят штука. Давали «Двенадцатую ночь», конечно, лучше бы что-нибудь другое, хотя что? Репертуар нервно перемогался между Софроновым и Островским с легкими перебежками в сторону Шекспира.
Но командировочный ходит в театр не для того, чтобы что-то там смотреть. Вадим Петрович, например, идет, чтоб не выпивать с собратьями-толкачами. Что невозможно сделать, оставаясь в номере. У него язва двенадцатиперстной, но кому это объяснишь? Он, конечно, может рюмку, две, но гостиничное пьянство — процесс безудержный, страстный. В нем такая энергия смятения и тоски, что язва просто не может идти в расчет по причине мелкости своей природы. Он после театра еще и по улицам походит тихо и неспешно, а в номер нырнет, как битый пес в подворотню, и затаится там без всякой между прочим надежды, что его не отловят где-нибудь часа в три ночи, чтобы задать глобально-космический вопрос: как он насчет баб? Никакой проблемы снять их нет, но Петрович (Михалыч, Кузьмич, Иваныч) рассказал случай такой болезни, что проявляется сразу и притом на лице, какая-то американская зараза, видимо, из Вьетнама, а может, еще из Кореи, какой-то половой вирус, который косит белого мужчину как хочет, а женщине хоть бы хны. Один вот так приехал из командировки, а у него прямо на парткоме лицо пошло буквами.
Дичь, дичь, полная дичь… Но три часа ночи, ремни у штанов на последнюю дырочку и такая сила хотения, что даже страхи получить знаки на будущем парткоме — имею в гробу! «Ты пойдешь с нами, Вадя, или?! Ты сука, Вадя, сука… Ты не мужик, Вадя… Ты обосрался, ебена мать, Вадя…» «Да,
— скажет он, — да. Я такой!» Вот за это, что он такой, они и пошлют его за бутылкой, потому что если ты такой, то хотя бы выпей, сволочная твоя морда. Другой альтернативы, скажут, нет! Или по опасным бабам, или пьем по новой! Выбирай, Вадя, иначе на тебе опробуем вьетнамское (корейское, китайское, мексиканское, негритянское) оружие. «Ты ляжешь, Вадя, первым! И даже не сомневайся в нашей жестокости».
Вот почему он сидит вечерами в театре. Он видел «Двенадцатую ночь» несчетное число раз. Он видел Виол с тяжелыми ляжками и бойцовскими икрами ног, под которыми гнулись половицы сцены. Видел Виол с ногами-спичками, столь легкими и невозбуждающими, что думалось: «О Господи! Зачем ты так нещедр?» Встречались и коротконогие Виолы. У этих раструбы ботфортов щекотали им самое что ни на есть тайное место, и эта потеха обуви и тела, бывало, передавалась залу. Тут некрасивость производила тот эффект, которого актрисы с идеальными ногами не достигали, и в этом гнездилась загадка победы природы над искусством.
Нора была идеальной Виолой в смысле ног и ботфортов. И вообще спектакль был вполне: Эгьючик там, Мальволио вызывали нужный утробный смех.
Когда он совсем освоился в восприятии, вытеснив из памяти всех предыдущих актрис, он понял, что ему нравится эта Лаубе, интересно, кто она по национальности? Немка? Прибалтийка? Красивый голос, из тех, что особенно хороши в нижнем регистре. Мальчик из нее что надо… Хотя и женское в ней, спрятавшись в мужской наряд, очень даже возбуждает. Такого подарка от театра он, честно говоря, не ждал. За полтора рубля — и такие молодые эмоции! Его тут недавно настигло сорокапятилетие. Жил-жил и не заметил, как… Жена с чего-то вдруг засуетилась, а до этого было, между прочим, и сорок, и тридцать пять… Он понял: радостно-нервной возней вокруг его лет жена как бы утвердила некий переход в другое его время. Она его назвала, время, так: «Можно перестать себя расчесывать и сдирать струпья». Никогда до этого, никогда… они не говорили про это — про расчесывание и струпья. Но ведь несказанное, оно было в нем, было! Горе-злосчастье неслучившегося, несовершенного, горе ушедшего как песок времени. Вадим Петрович Иванов с нежным шуршанием ссыпался, стекал в узкое горлышко никуда, и сколько там его осталось в воронке жизни?
А тут — на тебе… Такое волнение от женщины-артистки. Существа других неведомых реальностей, существа, принадлежащего, так сказать, всем сразу. И вот оно, существо артистки, вызывает в нем совершенно частную, индивидуальную мужскую нежность, до такой степени не поделенную со всеми, что даже удивительно присутствие других людей слева и справа…
Надо ли говорить, что Вадим Петрович поперся к служебному входу и вырос там под фонарным столбом? Надо ли говорить, что незнаменитый театр такими «сырами» — по-нынешнему фанатами — избалован не был, что под фонарем он был один — немолодой мужчина провинциального вида: в шапке из зайца, которую напялила на него жена, потому как Ленин-град — город сырости и туберкулеза. Другой бы, может, и оспорил мотивацию уже неновой шапки, но он принял треух, как принимал от жены все по праву младшего (хотя жена была моложе его на пять лет), а потому осведомленного о жизни меньше. Жена же знала практически все: Ленинград — город туберкулеза. Одесса — сифилиса. Москва — гастрита. Свердловск — аллергии. Элиста — гепатита. Астрахань — дизентерии. Такой была табель о болезнях его командировок. Поэтому в тот день заячья ушанка под полной луной поблескивала основательной вытертостью, в день серпомесяца это могло и не обнаружиться.