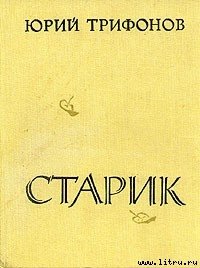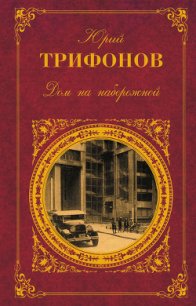Утоление жажды - Трифонов Юрий Валентинович (читать книги онлайн .TXT) 📗
Нагаев спрыгнул на землю. Его тут же сбило с ног, и он пополз по откосу на четвереньках. До будок было шагов сто двадцать. Нагаев несколько раз падал, прежде чем добежал до ближайшей будки, где жили Беки, Иван и Чары Аманов.
— Во буранчик! Во дает, во дает! — по-дурацки хохоча, кричал Иван.
Аманов и Беки сидели, оцепенев, на корточках и с угрюмым равнодушием прислушивались к шуму бури. Будку трясло, она уже вся наполнилась пылью и удушливым запахом. Деревянная стена с одной стороны затрещала. Упираясь в стену плечами, Иван кричал:
— Во дает! Поехали, поехали в Мары без билета!
Будка в самом деле покачнулась и как будто немного сдвинулась. Нагаев с трудом распахнул дверь и, закрывая лицо рукавом, побежал к своей будке. Ему вдруг померещилось, что Марины нет дома, и он испугался.
Марины не было. Забившись под койку, трусливо скулила Белка.
— Где хозяйка? Куда ушла?
Нагаев сел на ящик. Белка вылезла из-под койки, и он почувствовал, как собака дрожит. Он машинально гладил ее, а она тихо взвизгивала, стараясь еще глубже сунуть голову меж его ног.
Внезапно оттолкнув собаку, Нагаев схватил свои мотоциклетные очки и выскочил из будки на волю. В пяти шагах ничего не было видно. Нагаев изо всех сил закричал: «Маринка-а!» — но голос его сразу унесся с песком и пропал. Больше кричать он не мог, в рот набилась пыль, он закашлялся.
Она ушла за дровами. Больше некуда. Обыкновенно она ломала саксаул в километре от лагеря: там был так называемый «как» — низинка, где скапливались весной дождевые воды, испарявшиеся к лету. Верно, там и захватил ее буран, там она и сидит. Или где-нибудь на дороге легла.
Нагаев двигался ползком, а как только он чуть выпрямлялся, ветер сшибал его с ног. Иногда он падал на песок и лежал, отдыхая, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку, и ругался сквозь зубы. В нем все кипело от злости. Он ненавидел Марину. Ненавидел за то, что пошла, дура, не вовремя за дровами, и за то, что струсила и сейчас лежит где-нибудь в яме и ревет белугой, и за то, что надо искать ее, ползти, задыхаться от страха. Он ненавидел ее за то, что ему самому было очень страшно. Однако он продолжал двигаться. Потеряв всякую осторожность, он удалялся от лагеря все дальше. Он все время держался тракторного следа — это был единственный ориентир, — до тех пор, пока не начался крутой и долгий подъем и тракторный след повернул в обход, по склону бархана. Но Нагаев должен был перевалить через этот бархан и потом еще через один и потом пройти мимо большого куста черкеза, на котором висит консервная банка. И там уже близко, в тридцати шагах, была эта впадина.
Он отчетливо представлял себе весь путь, который надо проделать, но не верил в то, что найдет Марину. Его движение было перпендикулярно движению ветра, поэтому его все время сносило вправо, и он полз боком, левым плечом вперед, и это было похоже на плавание через реку с сильным течением. Но не видно было берега. Ни того, ни другого.
«Черт дурной! — ругал себя Нагаев. — Ребятам не сказал, сорвался! Теперь жри песок, подыхай, балда ослиная, каюк тебе тут…»
Тракторный след пошел по склону. Надо было отрываться от него: в сторону и вверх. Это значит отрываться от лагеря окончательно. Не задумываясь, Нагаев полез на четвереньках наверх. Кожа на его лице и на руках горела, как будто ее нахлестали веником.
Перед тем как подняться на второй гребень, Нагаев долго лежал в низине, собираясь с силами. Злоба его иссякла. Ему было слишком страшно, чтобы злиться. Он старался все делать не думая: просто отдыхать, а потом ползти, карабкаться по рыхлому, горячему склону, отворачивать лицо, дышать сквозь ладони, как сквозь маску, и потом катиться вниз, задыхаясь от пыли и выхаркивая пыль изо рта. Но в глубине сознания за всем страхом, болью, упрямством и озлоблением брезжила трезвая мысль: если за вторым барханом пусто, тогда — назад, немедля назад!
Через полчаса, когда стало совсем темно, — а было, наверно, не больше семи вечера, — Нагаев дотащился до впадины, и наткнулся руками на первое дерево саксаула, и стал кричать, и не удивился, когда ему ответил пронзительный вопль Марины и она выскочила вдруг из темноты, схватила его за руки, как будто боялась, что он может уйти, и от радости упала на колени, и он тоже упал, потому что силы его кончились.
— А я лежу и слезюсь… и слезюсь… — всхлипывая, шептала Марина.
Нагаев сел на песок. Ну вот, он догадался правильно: она лежала под деревом и ревела. Раздражение против нее вскипело в нем с новой силой, он встал и дернул Марину за руку:
— Вставай! Нечего тут…
Марина покорно поднялась, не выпуская руки Нагаева из двух своих. Она даже прижала его руку, как какую-то драгоценность, к своей груди, это было уж слишком, и он вырвал руку и сказал:
— Ну, пошли, что ли?
— Семеныч! Сенечка ты мой родной! — вдруг заголосила она громко, рыдающим голосом и бросилась к нему на шею, и ему пришлось обнять ее, чтоб удержаться на ногах. — Спасибо тебе, Сенечка! Родной мой, спасибо! Спасибо! Тыщу раз тебе спасибо! Мильон раз тебе спасибо! — Она торопливо, жадно целовала Нагаева. — Я уж думала — конец мне приходит. Ни один, думаю, паразит не вспомнил, и папки нету. И вдруг — ты… Сенечка мой родной!
Она изо всех сил обнимала его, прижималась к нему мокрым, шершавым лицом. Нагаев, встряхнув Марину за плечи, слегка отстранил ее.
— Ладно… Кончай, ну!
— Хорошо, Семеныч…
— Айда. Держись за меня.
— Держусь!
И Марина держалась. Она держалась так крепко, что обратный путь показался Нагаеву втрое длинней. Она не отпускала его ни на метр. То она хватала его за руку, то висла на плече, то обеими руками цеплялась за ремень от брюк. Она объясняла, что держится за него потому, что боится открыть глаза, как бы песком не засыпало. «Афганец» стихал, песок мело реже, но было все так же темно, теперь уже не от песчаной мглы, а от вечернего сумрака, и приходилось останавливаться и отыскивать тракторный след.
Когда Нагаев хотел отойти от Марины в сторону, чтобы разглядеть след получше, она с криками цеплялась за него и принималась плакать, и Нагаев ругался последними словами. Марина висела на нем, как прикованная. Оторвать ее могла только смерть.
— Ой, боюсь, боюсь, боюсь! — причитала она хриплым, кликушеским голосом.
— Да чего боишься? Ведь здесь я! Вот дурища!
— Ой, боюсь, боюсь, боюсь…
— Тьфу, черт!.. По скуле тебе дать, что ли?
— Ой, боюсь, боюсь…
Несколько раз Нагаев пытался по-разумному втолковать Марине, что убегать от нее нет ему никакого резона, что он специально ушел из лагеря затем, чтобы найти ее и привести домой, а не затем, чтобы убегать от нее, и что своим цепляньем она мешает соображать, тормозит движение и добьется того, что они застрянут до ночи и будут ночевать в песках. Марина как будто и понимала его слова, но страх был сильнее всякого понимания, и она твердила одно: «Ой, боюсь, боюсь…»
Наконец, обессиленный этой борьбой и усталостью, Нагаев сел на песок и сказал, что не знает, куда идти дальше, и в общем — каюк, придется тут куковать до света.
Марина смиренно опустилась с ним рядом, притерлась к нему боком и затихла. Для нее было, кажется, главное дело — не отпускать Нагаева. Рядом с ним она ничего не боялась. Она даже дремать пристроилась: голова ее легла на плечо Нагаева, и она вздохнула глубоко и покойно.
«Ну и дура девка! — думал Нагаев с тоской. — Ладно, погоди ж ты… Пересидим до утра…»
Но до утра им сидеть не пришлось. Через полчаса сквозь шум ветра прорвался чей-то крик. Марина вскочила на ноги и завопила тем пронзительным, визжащим голосом, каким она вопила, когда услышала Нагаева. В темноте мелькнули два фонаря. Первой ссыпалась по песчаному склону Белка, потом подбежали Иван и Беки, затормошили, задергали, подняли Марину на руки, а потом Иван оттолкнул Беки, сгреб Марину в охапку и понес один, как ребеночка. Нагаев, позабытый всеми, ковылял в потемках сзади. Одна Белка радостно прыгала вокруг него и тыкалась мордой в его ноги.