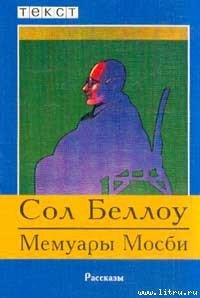Между небом и землей - Беллоу Сол (читать книги полностью txt) 📗
Это было «на меня-не похоже». Ранние симптомы. Прежний Джозеф был человек мирный, покладистый. Конечно, я давно уже знал за собой этот наследственный страх, вечно мы начеку, как бы нас не оскорбили пренебреженьем: раздутое «чувство чести». Конечно, это не столетней давности ярость дуэлянта. Тем не менее мы подвержены вспышкам; слово, брошенное в киношке, в толпе, — и мы готовы кинуться друг на друга. Только вспышки эти, по-моему, не вполне натуральны. Мы слишком темны, слишком бедны духовно, чтоб разобраться, что кидаемся мы на «врага» из-за смутных причин: от любви, одиночества. И еще, наверно, от презренья к себе. Но главное — от одиночества.
Айва, хоть тогда это скрыла, удивилась на самом деле, она мне потом сказала. Это было попирание моих же собственных принципов. Меня это насторожило. И в предательстве, которое я наблюдал у Серватиусов, я сам отчасти был виноват, в чем не мог не признаться.
8 февраля
Температура никак не оторвется от нуля. Холод — часть общей гнусности. Каждый раз думаю о его уместности, узнавая военные новости. Нельзя не уважать эту зиму за неослабную лютость. «Вихрь, гром и ливень… Я вас не упрекаю в бессердечье», — вопит Лир. Взывает: «Так да свершится вся ваша злая воля надо мной"1. Как он прав, однако.
9 февраля
Я как граната с сорванной чекой. Знаю, что взорвусь, постоянно чую в себе этот миг, кричу в молитвенном ужасе: «Бабах!» Но все рано, рано.
Вот тут Гете прав: продолжение жизни означает надежду. Смерть — отмена выбора. Чем больше сужается выбор, тем ближе мы к смерти. Жестокость страшнейшая — отнять надежду, не отняв окончательно жизни. Это как тюремный пожизненный срок. Как гражданство в некоторых странах. Лучшим выходом было бы жить так, будто надежда не отменена, день ото дня, вслепую. Но тут требуется немыслимое самообладание.
10 февраля
На прошлой неделе дважды был Стайдлер. Кажется, видит во мне достойного собрата. То есть, рискну сказать, считает, что мы два сапога пара. Я ничего не имел бы против его визитов и пусть себе считал бы что хочет, но только вот опять через несколько часов — это чувство, будто мы предаемся вместе стыдному греху. Мы курим, разговариваем. Он рассказывает-о своих похождениях в Калифорнии, в больнице, о теперешних своих делах. Оказывается, он получает десять долларов в неделю от матери и еще пять от брата. Благодаря строжайшей экономии живет на двенадцать, остальное уходит на лошадей. Бывает, выигрывает, но вообще, он подсчитал, за последние десять лет ухнул на это дело четыре тысячи долларов.
Он такие вещи обсуждать не любит. Упоминает мимоходом. Он не слепой, понимает, какая все это пошлость и муть. Но считает, что от пошлости никуда не денешься. Всюду дрянь, и притом показуха. А чего уж прикидываться? Все равно все вылезет наружу и ты же окажешься в дураках. Так буквально он выражается. Начнешь его расспрашивать о житейских подробностях — смотрит с удивлением. Нет, без обиды. Но то, что такая заведомая тягомотина может тебя интересовать, искренне его удивляет. Лучше он расскажет, как зевнул или сорвал куш, как словчил, как отбрил, расколол кого-то, какое подковыристое письмо послал кредитору, о своей незабываемой встрече.
В последний раз поведал долгую, изнурительную историю об ухаживании за норвежкой, которая живет с ним в одном отеле — «Лаэрд-тауэрс». Познакомились в День благодарения, в холле. Хартли, коридорный, ему сигнализировал, и он пошел на приступ. Сперва, конечно, он ей не показался. Сначала всегда так бывает. К Рождеству она стала понежнее к нему приглядываться. А денег у него, как назло, полный ноль. Тут он получил информацию, что еще кое-кто в отеле на нее сделал ставку. Хартли держал его в курсе. «Зря старался. Я и без него разгляжу классную кобылку».
И вот на Святках он огребает кучу денег на Пеструшке — смотреть не на что, пони буквально. Всех уделала на пару столбов. Приглашает норвежку вечером во «Фиоренцу», покушать спагетти.
«Все у нас шло вроде путем, в одиннадцать она говорит — я выйду на минуточку, я сижу себе, посасываю преспокойно сигару („Перфекто“, кстати) и думаю: „Ну, парень, дело в шляпе“. Она „Пинк леди“ пила, вещь крепкая, перебрала малость. Покачивало ее. Ну, сижу, жду. Четверть двенадцатого — а ее нет как нет, я забеспокоился — может, тошнит ее там, в туалете. Пошел за дежурной, чтоб глянула. Дошел только до оркестра, а там она — на коленях у лабуха. Ну, я виду не подаю, что меня это оскорбляет, но намекаю, что поздно и не пора ли, мол, нам домой? Она и не думает вставать. Я не стал себя выставлять идиотом. Слинял».
Две недели он ей посылал письма. Не отвечала. Когда уже порастряс почти весь свой выигрыш, он встретил ее на Петле. Она сказала, что у нее день рожденья. Он предложил выпить. Пошли в «Черный ястреб», взяли пива. И тут подходят к стойке пижоны, несколько человек, обалденно одеты, один в морском кителе. Альф встает, платит за пиво, остаток мелочи ссыпает на столик: «Я свою весовую категорию знаю». И без цента в кармане идет в отель.
История доплелась до своего логического завершенья — победы, причем норвежка поняла наконец, что внешность бывает обманчива, шутя и играя ему отдалась по пьянке, а тут ее ждал приятный сюрприз, и тэ дэ. Альф поразился бы, узнав, что наводит на меня тоску, он считает себя первоклассным затейником. Любой кафешантан оторвал бы его с руками. Он в совершенстве владеет несколькими арго. Но мне не надо, чтоб меня развлекали. Я сначала ему обрадовался, я и сейчас к нему хорошо отношусь. Ходил бы только пореже.
11 февраля
Вернулся Майрон Эйдлер. Утром звонил, что заглянет, как только вырвется. Робби Стилман приехал после шести месяцев в офицерской школе. Стал инженером. Будет строить аэродромы. Говорит, не так уж страшна армейская жизнь, если притерпеться к дисциплине. Приучить себя к подчинению.
Его брат Бен где-то в дебрях Бразилии. С октября ни слуху ни духу.
14 февраля
Никаких признаков Майрона, никого вообще. Стайдлер и тот меня, кажется, бросил. Два дня без гостей, без вестей, разговоров. Две выдранных из календаря пустоты. Поневоле взмолишься о перемене, не важно какой, возмечтаешь о любом, каком-никаком происшествии. Если бы не упрямство, я бы давно признал свое поражение, сознался бы сам себе, что свобода мне не по плечу.
15 февраля
Письмо от Абта, изобилующее вашингтонскими сплетнями, разъясняющее текущую политику. Почему мы так-то и так-то действуем в Северной Африке, в отношениях с Испанией, с Мартиникой, де Голлем. Меня забавляет тонкая гордость, с которой он намекает на свои короткие отношения со знаменитостями. (То есть они, как я понимаю, знамениты в официальных кругах. Я о них понятия не имею.)
16 февраля
Старая миссис Кифер, как выражается миссис Бартлетт, «уходит». Недели две, может, и протянет, но на этом деле — пантомима: она вонзает в собственную руку иглу — век не продержишься. Мы ходим по дому на цыпочках. Капитан Бриге уже не выходит вечерком покурить. Чересчур холодно.
17 февраля
Мы сблизились с Айвой. В последнее время она заметно избавилась от кое-каких вещей, которые меня раздражали. Не сетует на жизнь в меблирашках; меньше, кажется, занята тряпками; не критикует мой вид; ее не так огорчает состояние моего белья, из-за которого я, одеваясь, часто сую ногу не в ту дыру. И прочее: дешевые забегаловки, где мы едим, хроническое безденежье. И все же она по-прежнему далека от того, что я пытался из нее сделать. Боюсь, она на это не способна. Зато меня самого потрясает, как нахально я делил людей на две категории: с ценными идеями и без оных.
18 февраля
Вчера, проходя мимо куста, где я обнаружил краденый носок, заметил еще пару. Значит, Ванейкер украл несколько. Вечером, когда шли мимо, показал Айве. Она их тоже узнала. Говорит, надо как-нибудь так ему показать, что мы знаем о воровстве.