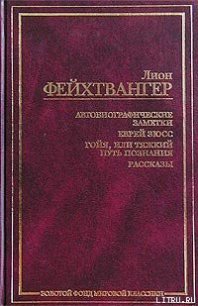Исповедь еврея - Мелихов Александр Мотельевич (книги онлайн полные .TXT) 📗
«Его повели, расстреляли на старый кладбищенский двор. И там над сырою могилой рыдает отец-прокурор», – не заурядная жалость – Красота стискивала мое горло и охватывала шкуру восторженным холодом. Рыдания удерживались в моей груди только вполне земными ежеминутными встрясками: то и дело находились люди, способные не бросить Орфею хоть медяк. «Не дай Бог вам так полхгать», – раздирающе хрипя, отпускал им вину музыкант, и я из кожи выпрастывался, стараясь показать, что мне мучительно стыдно за моих соотечественников.
Едвига Францевна и не подозревала, из какого сора вырастали мои гармонические рыдания. Я кидался к каждому гудящему столбу с хрипящим репродуктором, чтобы ухватить хоть одно словцо из потрясающих, как падение с крыши на спину, грандиозных музыкальных творений – «Амурские волны» (как наполненно звучит!), «Дунайские волны»…
Я доискивался «слов» у всех подряд, зато «Березка» досталась мне в виде дара. Загорелый бо-сявка с ободранными коленками, я был музыкант — и Едвига Францевна элегически делилась со мной воспоминаниями о каком-то канувшем мире, которому, хотя в нем тоже звучала «Березка», не могло найтись места в «реальной действительности»: его, как дядю Зяму, держали на дне такие ненашенские слова, как «веранда», «влюблен», «гимназист», «бокал», «лимонад». Кто бы мог подумать, что лимонад был чем-то сродни нашей фруктовке, красной, как столовский борщ, шибающей в нос уксусом так, что слезы прыскали, как у клоуна. Зато когда допиваешь ее – горяченькую, обезгаженную – из недопитых раскаленных солнцем бутылок, натыканных в клетушки горячих ящиков за киоском, – она уже смирная, кисло-сладкая, как еврейский соус в доме деда Аврума. В том мире даже слово «инженер» означало совсем не то, что у нас на Мехзаводе, – там оно сопрягалось с «устрицами» и «лимонным соком». Яблоки у нас на базаре продавались штуками, а чтобы увидеть лимон, мне пришлось поехать в Москву.
Меня всегда удивляло, как это дворяне – всякие графы и князья – не считали западло ходить по улице, когда рядом шныряют какие-то чумазые разносчики и лошади роняют свои конские яблоки. Но когда я вспоминаю фигуру Едвиги Францевны, удаляющуюся в перспективе жердей и плетней, над голозадыми пыльными пацанятами и степенными курами, чопорно роняющими плевочки помета, – я сразу понимаю: в Эдеме ни в чем не бывает ничего зазорного – только положенное.
Меня, как и папу Якова Абрамовича, больше всего любили женщины. Хоть они и хохотали от умиления, когда я пел про любовь: «Встретишь вечерочком милую в садочке – сразу жизнь становится иной». Но кое-кто иной раз смахивал и непрошеную слезу. И подпевали всерьез – не то что пацаны: «Выйди на крылечко ты, мое сердечко, я тебя огрею кирпичом». Да и взрослые парни в самый трогательный миг («Руку жала, провожала») могли вдруг заорать: «Руку стиснула, чемодан свистнула, убежа-ала, убежа-ала!» (а то и: «Руку жала, хер держала»). Или исполнить с плаксивой задушевностью: «Все ждала и верила, милому скажу. А пошла, проверила – с триппером хожу» (впрочем, это было позднее).
На меня обратилась вся женская любовь, предназначенная Дунаевскому, Мокроусову, Фрадкину и Соловьеву-Седому. Но меня самого творения этих человеческих, слишком человеческих гениев трогали гусиной кожей лишь в отдельных местах. Меня влекло к более величественным шедеврам, от которых вся шерсть вплоть до ладоней и подошв вставала дыбом.
Наш облезло-полированный гроб (я имею в виду приемник) передавал только треск, писк и завывания – именно их почему-то обожал слушать папа. Мне понадобилась огромная политическая зрелость, чтобы додуть, что этот отщепенец пытался получить инструкции от своих заокеанских хозяев, угнездившихся на острове Окинава – это имя, поспешно гасимое, иногда ухватывал и мой неискушенный слух. Поэтому я пасся вокруг хрипатых и гундосых уличных репродукторов, пытаясь, как кот в пузырек с валерьянкой, с головой втереться в вибрирующий от ветра столб.
Подобно археологу или палеонтологу, я восстанавливал из черепков и раздробленных косточек те великие песни, от одной капли которых на ведро хрипа и треска я занимался гусиной кожей от макушки до ногтей. Оставшись дома один или забравшись в сарай к кабану, такому же неистовому, как я, я распевал их, эти песни богов и титанов, срывающимся от жертвенного восторга голоском: голос – ерунда, любой сколько-нибудь намекающий знак немедленно рождал в моих ушах целый симфонический оркестр.
Но – искусство должно принадлежать народу. Мне становились все теснее и теснее мои одинокие восторги… И вот, наконец меня, будто большого, пригласили с гармошкой на гулянку. Встретили умильным ревом. Хохочущие добродушные рожи, багровые, как взрытые в мисках винегреты. «Скажи: кукуруза», – дружелюбно выкрикнул кто-то. «Кочаны», – в детстве отвечал папа Яков Абрамович, но я не хотел хитрить. «Кукугуза», – для поддержки дружелюбия ответил я: я уже знал, что такой ответ почему-то приводит людей в прекрасное расположение духа – и не ошибся. После громового хохота мной уже не умилялись, а сердечно любили. Усадили едва ли не на трон, но из-за гармошки выглядывала почти что одна моя златокудрая макушка, как завершающая, русская из русских, звуковая кнопка. Я задохнулся от восторга и любви к единоверцам, готовясь надуть их своей страстью. Даже срывающийся голос сумел врубить мой внутренний оркестр:
Рабочий слушал мои задыхающиеся выкрики в полном безмолвии: «И как! Один умрем! В борьбе! За это!» Не убавляя напора, на плечах бегущих прочь земных шуточек и страстишек я завладевал все новыми и новыми пространствами открывшихся мне душ: в бой роковой мы вступили с врагами – вперед заре навстречу, по долинам и по взгорьям, – и к нам не смела приблизиться паясничающая скверна: «Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой. И всех врагов побьем столовой ложкой» или «По долинам и по взгорьям шла коза, задравши хвост. И на Тихом океане на козу напал понос».
Нет, прочь, гнусные призраки – шел отряд по берегу, а вышел к Херсону, в живых я остался один, под солнцем горячим, под ночью слепою ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай…
Санитары со смирительной рубашкой действовали с удивительной деликатностью, я и не заметил, когда и откуда привели дядю Пашу – его сочувственная выщербленная улыбка заслонила мир совсем неожиданно: «Дай-кось, я спробую». И развернулся с ррусссской удалью: «Степногорские вы дефти, куда, дефти, вас девать? Скоро лошади подохнуть – будем девок запрягать». И облегченный вздох, как порыв весеннего ветра, прозвенел стаканами, затрепетал холодцами… А тут уже заюлила, заподмигивала барыня, барыня, сударыня-барыня, и обрушившийся топот с подвизгом окончательно указал мне мое место – за дверью.
Но я, выходцем с того света (мира чужих), еще долго цепенел рядом с дядей Пашей, стараясь показать, что я завсегда душой с народом, вот и гармошка моя, сами видите, не против – вон как разливается, – но душевная боль была уже вполне зрелой. Боль одиночества – никем не разделенной любви.
Дома, все еще охватываясь гусиной кожей, я не оставил вдохновенных распеваний: «На них чудовища стальные ползли, качаясь, сорок штук. Мы защитим страну родную, сказал гвардейцам политрук». Чудовища стальные – это (хоть я и не знал таких слов) потрясало именно поэтической силой образа. Надо же так найти: «чудовища стальные!» Да еще «качаясь» – зримо до ужаса. Рифма «стальные» – «родную» не удивляла. Гришка как-то возмущался, что в «Пионерской правде» рифмуют «просто» и «из-под моста», а сосед Лешка Самсонов – авторитетный человек, комсомолец, билет показывал, прикрывши номер: это секрет, а то выгонят на хер из комсомола – так вот, Лешка разъяснил, что стихотворение, наверно, революционное. Да не революционное, выходил из себя Гришка, а грузовик упал с моста. Ты не понимаешь, со значением останавливал его Лешка, раз «просто» – «из-под моста» – значит революционное. Это из обрезанного Маяковского он вынес или сам додумался? Наш Эдем ведь был полон намеков и политических предзнаменований. Я, например, был уверен, что у шпионов в документах буква «гэ» пишется вверх ногами – латинское «эль» из папиных иностранных книжек.