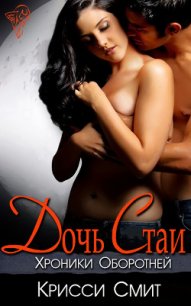Как быть двумя - Смит Али (бесплатные полные книги txt, fb2) 📗
Я закричала, сидя в кухне на ящике, покрытом полотенцами:
Ничего! Я не помню! Ничего!
В окно я увидела, как две служанки подпрыгнули от этого крика: Барто тоже чуть из собственной шкуры не выскочил. Я размахивала руками, как сумасшедшая: я перевернула чашу с Водой Памяти: она пролилась сквозь трещину в столешнице на пол: в дверях столпились перепуганные слуги Гарганелли: Барто поднял руку, останавливая их: он склонился надо мной и не сводил с меня глаз: а я смотрела сквозь него, как слепая.
Кто ты? спросила я.
Франческо… начал было Барто.
Ты — Франческо, проговорила я. А кто я?
Нет, Франческо — это ты, сказал Барто. Я — твой друг. Ты разве не узнаешь меня?
Где я? спросила я.
В моем доме, сказал Барто. На кухне. Франческо! Ты здесь бывала тысячу раз.
Мой рот открылся: я позволила лицу стать совершенно пустым: потом подняла со стола руку, мокрую от пролитой воды: и посмотрела на нее так, словно впервые вижу руку и не знаю, что это такое.
Это я, сказал Барто. Бартоломео Гарганелли.
Что это за место? спросила я. Кто такой Бартоломео Гарганелли?
Барто побледнел, как осенний туман.
О Господи, Пречистая Мадонна, все ангелы и младенец Иисус! воскликнул он.
Кто такие Господь, Мадонна и младенец? спросила я.
Что я натворил! вскричал он.
А что ты натворил? спросила я.
Я попыталась встать, а потом как бы забыла, зачем человеку ноги и рухнула со своего сиденья на пол: у меня вышло очень убедительно: да только в кармане у меня стало мокро: разбились яйца.
Чтоб вам пусто было! выругалась я.
Франческо? вопросил Барто.
Кажется, прошло, вымолвила я.
С тобой все в порядке? заволновался Барто.
На лбу у него выступил пот: он упал на скамью, словно вмиг обессилев.
Ах ты шельма! Наконец проговорил он.
А потом добавил: Слава тебе, Господи, Франческо!..
Я поднялась на ноги: на моей куртке и на всей остальной одежде с той стороны, где находился карман, яйца оставили большущее мокрое пятно.
На минуту, сказал он, для меня случился конец света.
Я засмеялась, и он вслед за мной: я запустила руку в карман и вытащила оттуда желток, который — о чудо! — уцелел в половинке скорлупы: остальные желтки перемешались со своими белками и скорлупой и повисли у меня на руке длинной слизистой прядью: я вытерла руку сначала о стол, а потом о щеки друга, который мне это позволил: потом я перевернула уцелевшую половинку скорлупы с желтком себе на ладонь и показала ему.
Оракул говорит, сказал Барто.
Совсем из головы вылетело, что в кармане яйца, сказала я.
Ну вот видишь! сказал Барто. Я же говорил — поможет.
Девочке не спится: а когда она все-таки засыпает, то мечется в кровати, как выброшенная на сушу рыба: по ночам я смотрю, как она извивается в полузабытьи или сидит в темноте своей комнаты неподвижно, и лицо ее при этом ничего не выражает.
Великий Альберти говорит, что когда нам приходится рисовать мертвых, мертвец должен быть неживым каждой своей частью, вплоть до ногтей, которые являются одновременно и живыми, и неживыми: он говорит, что когда мы рисуем живых, те должны быть живы во всем, вплоть до последнего волоска на голове или на руке: рисование, утверждает Альберти, это своего рода противоположность смерти: и хотя ему известно, что если с нас снять все, кроме костей, только Бог в силах снова сделать нас людьми, вернуть черепам лица в судный день — и так далее, и тому подобное, но в том, что я сейчас скажу, нет ни малейшего святотатства…
ведь так говорил Альберти, и это правда…
в точности так же множество людей могут взглянуть на картину и увидеть на ней живой, как само солнце, чей-то образ, тогда как тот, кто там изображен, уже сотни лет не живет и не дышит.
Альберти — тот, кто научил нас строить тело, опираясь на голый скелет: а значит, процесс рисования или живописи позволяет перехитрить смерть, рисуйте, писал он, любое существо, выделяя каждую его кость и наращивая на ней мышцы, а затем покрывайте их всей необходимой плотью: и это обрастание костей плотью и есть истинная сущность акта рисования.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Я теперь чувствую: девочка пережила чью-то смерть или исчезновение — возможно, той самой темноволосой женщины, что изображена на картинах на южной стене над ее кроватью, — иногда она подолгу смотрит на них, а иногда не может смотреть: на этих изображениях женщина и старше, и моложе, иногда с малышом, похожим на мою девочку, на руках, иногда с другим младенцем, который потом подрастет и станет ее братом, иногда с какими-то незнакомыми людьми: в этом случае картины означают смерть: ведь всякая картина может быть и жизнью, и смертью одновременно, а может и пересекать грань между ними.
Однажды девочка поднесла образ этой женщины так близко к светильнику, чтобы разглядеть в нем что-то или подсветить его темноту, что я подумала: картина вот-вот вспыхнет: но светильники в чистилище зачарованные, и в конце концов ничего не загорелось.
Кто же стал утратой для девочки — эта женщина или та, на чьем изображении написано «Monica Victims»? А может, это одна из девушек с картины, на которой залитая солнцем улица и две подружки, светловолосая и темноволосая, в золотом и голубом нарядах: может, исчезли все они: может, этот край посетило моровое поветрие, и все они умерли…
Но ведь эта девочка — художник! Она сняла с северной стены все изображения дома, перед которым мы с ней так часто сидим, и теперь на столе в своей комнате создает из них новое произведение, и я вдруг почувствовала, что попала к правильному человеку, ведь это произведение имеет форму… кирпичной стены.
Как будто каждая из этих зарисовок — кирпич в стене, и она расположила их немного неровно, именно так, как надо, подрисовала и оттенила грифелем линии разделов между «кирпичами», некоторые картинки обрезала вдоль краев, чтобы они хорошо легли в линии «кладки»: точно так же разворачивают или оббивают настоящие кирпичи, в самом деле — точно как стена! Девочка — художник, и умеет делать хорошие вещи: стена с картинками-кирпичами получилась длинной, она уже свисает со стола и сворачивается на полу, даже немного тянется по полу, словно комната — это разделенная на части территория, где
Да
вот они — все воспоминания и их забвение работая над святым Винченцо в Болонье, за хорошую плату, я раздобыла густой аурум музикум[16] (великий Ченнини, который редко ошибается, все-таки неправ в отношении этого пигмента, когда утверждает, что он хуже прочих золотых красок): высоко над головой Винченцо я изобразила моего любимого покойного батюшку в образе Христа: надеюсь, в этом не было кощунства, ведь мой отец так любил и почитал Винченцо, нового святого — покровителя зодчих, каменщиков и кирпичников: и до своей смерти мой отец успел восемь раз отпраздновать его день (кроме того, мне нравилось представлять, что Христос, быть может, прожил более длинную жизнь на земле, чем нам говорят, — и это действительно грех, но такой, ради которого стоит запятнать частицу души, а если повезет — то и простительный).
На ту картину пошло много яиц: я старалась сделать краски как можно более насыщенными, густыми, в особенности, плащ и кожу святого.
Так много нельзя, предостерегал меня воришка. Не будет держаться.
Поживем — увидим, Эрколе, говорила я.
Лазурь слишком густая, сокрушался воришка.
Поживем — увидим, снова отвечала я.
Но мне понадобилось больше золота, поэтому я вышла пройтись, так сказать, размять глаза, и прикупить еще красок в лавочке, а заодно честь честью расплатиться с хозяином, потому что я уже немало ему задолжала
(написала святую Лючию, использовав больше золота, чем тогда могла себе позволить: у нее в руке была веточка — а на ней ее глаза, они раскрывались там подобно цветам, ведь великий Альберти пишет: глаз подобен бутону, оттого-то мне и представились эти глаза, ведь Лючия — святая, связанная со зрением и светом, и обычно ее изображают либо слепой, либо вовсе безглазой: впрочем, некоторые художники наделяют ее глазами, но не на лице, — вместо этого они кладут их на блюдо или на ее ладонь — но я не захотела ее ослеплять.