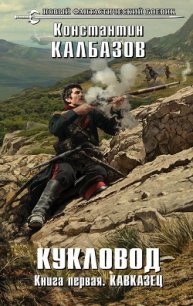Разговор со Спинозой - Смилевский Гоце (читать книги онлайн бесплатно полностью txt, fb2) 📗
Я спрашиваю себя, где Иоганн, что он делает, все ли еще ищет цветы под снегом и скачет ли он и дальше вслед за конечным? Я хочу знать, о чем он думает сразу после того, как проснется, и рядом с кем он просыпается — мужчиной или женщиной; я хочу знать, есть ли у него сын, и вспоминает ли он мертвую птицу, которую увидел на дороге, уезжая от меня, когда объясняет малышу, что значит слово «летать». Я хочу знать, хочет ли он, чтобы его сын учился ездить верхом, и не подумал ли он про себя, поняв, что все усилия безуспешны: «Он будет похож на профессора Бенедикта Спинозу. По его походке будет понятно, что он не умеет ездить верхом». Я хочу видеть, как после каждого захода солнца он смотрит в потемневшее небо и спрашивает себя: «Существует ли на самом деле бесконечность?»
Я думаю, как жестко я отталкивал других от себя ради собственного я.
Кто я, что я? Откуда и куда я? Почему я? Но прежде всего: кто я? Вот это я, тот, кто сегодняшним зимним утром вытирает потные ладони, вытащив руки из карманов?.. Или тот, кто шагает по дороге, ведущей из Гааги и продолжающейся на равнине, где синева рассвета падает на снег, накрывший поля? Неужели я, Спиноза, — это тот, кто смотрит на формы, которые принимают стаи птиц в сером небе? Какое я, то я, которое идет по колее телеги на снегу и смотрит на следы копыт двух лошадей, что тащили телегу, а потом глядит на пар, идущий изо рта при выдохе? Где находится это я, пока я вспоминаю утро, когда мама объясняла, что такое вдыхать и что такое выдыхать, и я спрашиваю себя: было ли именно то — мною? Я набираю снег и леплю шар — холод снега напоминает мне о холоде пальцев Клары Марии, когда однажды она приложила их к щекам и сказала: «Чувствуешь, какие они холодные», был ли именно я — тем, кто пытался своим дыханием согреть замерзшие пальцы Клары Марии? Я бросаю снежок как можно дальше и продолжаю идти по дороге — ветер бьет мне в лицо, так что мне приходится закрывать глаза, как я закрывал их холодным летним вечером, когда шел по улицам Амстердама и спрашивал себя, что делать дальше, что делать после отлучения, как закрывал их однажды утром, когда говорил Иоганну, что он должен уехать в Лейден, как закрывал их, когда приводил в порядок могилу отца.
Какое выбрать из всех я, разделенных во времени и рассеянных в пространстве, или же нужно отвернуться от этого разделения и рассеяния и пойти в противоположную сторону, попробовать найти одно единственное я, которое, может быть, существует в противопоставлении всем тем разделенным я, где-то не обязательно с наветренной стороны, а там, где нет ни наветренной, ни подветренной стороны, ни самого ветра, где нет ни времени, ни пространства?
Или все же я нахожусь в тех я, во всех прошлых я, я в том ребенке, который впервые слышит от матери, что значит вдыхать и выдыхать, я и в словах матери, я и во вдохе и выдохе; я и в своих щеках, но еще и в пальцах Клары Марии на этих щеках и в ее словах: «Чувствуешь, какие холодные»; я в том, кто покинул свой дом и зашагал в Амстердам, я в том, кто заставил Иоганна уехать, и в том, кто расчищал могилы, заросшие бурьяном.
Вот только как сделать так, чтобы настал миг, когда все эти я объединятся, как попасть в тот момент объединения, а тогда, я знаю, хотя этот момент кажется мне абсолютно недостижимым, я знаю, что тогда я буду там, где я всегда хотел быть, тогда я прикоснусь к частичке вечности и бесконечности, может быть, потому что сразу, в один миг переживая все прошедшее и безвозвратное, я буду больше, чем когда-либо, осознавать липкую боль преходящего и конечного.
На дороге перед собой я вижу лежащую на снегу замерзшую утку. Я оборачиваюсь — мутное зимнее солнце поднимается над крышами домов Гааги. Я иду назад в город.
А потом наступали другие дни, были и такие, когда я ощущал одно лишь отчаяние. Я предчувствовал эти дни заранее, как животные чуют несчастье, я ожидал их наступление, запасался — покупал бутылку молока, хлеб и табак и запирался в комнате. Спейк знал об этой моей привычке и не беспокоил меня, так что я оставался по несколько дней в одиночестве и, возможно, был ближе к себе и к другим, чем когда-либо. В такие дни я больше не пробовал отказываться от своих воспоминаний, пытаться заменить их адекватными идеями, размышлять о Боге и развивать интеллектуальную любовь к нему, тогда я думал о пальце девушки, которым она проводила мне по спине, как будто по ней скользил лист, я думал о той ночи с Кларой Марией, когда я был всего лишь в шаге от того, чтобы стать чем-то другим, не тем, чем я был в одинокие часы самоистязания, я вспоминал запах ее тела, я вспоминал голос Иоганна, странную интонацию, от которой кровь приливала к моему фаллосу, вспоминал, как выглядит его тело; в такие дни, а тем более в такие ночи меня охватывало отчаяние, я не мог заснуть, я сидел на полу в углу комнаты и перебирался из одного угла в другой каждые три часа, так что за сутки успевал посидеть в каждом углу дважды, в такие дни и ночи только углы, казалось, давали мне своего рода защиту, они были единственным местом, где я мог сидеть, не боясь исчезнуть, в такие дни и ночи меня охватывал ужас от одной мысли пойти погулять на улицу и даже от мысли просто выйти из комнаты, мне казалось, что я попаду в какое-нибудь место, где ничто не существует, где все стремится к своему концу и, что ужаснее всего, где нет протяжения бесконечной субстанции. В такие дни я лишь ненадолго оставлял углы, ровно настолько, сколько нужно, чтобы дойти до середины комнаты, сделать глоток молока, съесть кусочек хлеба, взять щепотку жевательного табака, иногда я доходил до стола для шлифовки линз, но не для того, чтобы работать, а чтобы потрогать стеклянную пыль — в те дни отчаяния я получал какое-то странное удовольствие от прикосновения к этой пыли — как будто я прикасался к чему-то подобному самому себе, своему существованию. Тяжело в этом признаваться, но счастье других в те моменты причиняло мне боль — я не мог слышать смех, раздававшийся на улице, иногда, когда я слышал звуки, долетающие оттуда, я вылезал из угла, в котором сидел, будто в чьих-то объятиях, подползал к окну, к его нижней части, я смотрел сквозь него, как вор, как преступник, как тот, кто прячется, я смотрел одним глазком, вполглаза. Я наблюдал за людьми на улице и спрашивал сам себя, счастье ли это и почему мне так и не удалось его достичь, хотя я всю жизнь думал, что при помощи того, что я пишу, я научу людей, как жить счастливо, спокойно и свободно, а мне не только не удалось испытать счастье, у меня во времена отчаяния не было ни покоя, ни свободы, меня угнетали мысли о том, что я мог сделать и чего не сделал, это создавало ужасное беспокойство, я уползал обратно в свой угол, затыкал уши пальцами и тогда слышал странный звук, который все чаще исходил из моей груди, звук, похожий на далекий волчий вой.
Такие пароксизмы отчаяния заканчивались в тот момент, когда мне удавалось сказать себе, что и отчаяние — всего лишь аффект, который можно преодолеть, поняв его, когда нечто позволяло мне помыслить это, а во время отчаяния, сколько бы я ни пытался сделать это, некая часть меня останавливала мысль, заставляла замереть на полпути, так что я мог сказать только: «Отчаяние — это аффект, являющийся следствием…», а потом своего рода лезвие отчаяния рассекало эту мысль, а я хотел снова жить спокойно; днем шлифовать линзы и писать, играть с детьми Спейка, гулять по улицам и заходить в таверну «У старого кота» выпить бокал вина, чтобы я мог спокойно взять телескоп и направить взгляд в небо, к звездам.
В один из тех периодов безмерного отчаяния кто-то постучал в мою дверь. Я не открыл, я сидел, скрючившись, в углу и кусал пальцы, но стук повторился, и потом я услышал голос госпожи Спейк:
«Кто-то хочет тебя видеть».
Они знали, что меня нельзя было беспокоить, кто бы ни пришел навестить меня, и это отступление от правил означало, что меня хочет видеть кто-то особенный. Я встал, посмотрел в зеркало на свои красные глаза, пригладил волосы и открыл дверь. Госпожа Спейк уже ушла, на пороге стояла одна только Клара Мария. Увидев меня, она как-то странно улыбнулась и издала еще более странный звук, словно вытолкнула шарик грусти из области солнечного сплетения в горло.