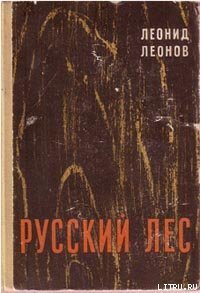Пирамида, т.2 - Леонов Леонид Максимович (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
– Послушай, братец, тебе надо лечь в кровать, у тебя и впрямь температура, – перебил его Никанор, – я не могу понять, что за сумбур ты говоришь, к чему клонишь...
– Погоди, дай досказать... – как бы продираясь сквозь колючие миражные видения, возникавшие из противоестественного обожествления им вождя, бормотал Вадим, продолжая говорить почти без знаков препинания уже бессвязно и с паузами – перевести дыхание: – Уж там мысли хватит затухающей памяти, воздадут за подсказанное людям, как будто тесно им было там, на заре, бессонное и сто тысяч лет подряд наступление в море неизвестности, пока встречной волной, рассердившись однажды, не вернет их назад к пещере. Заодно в том же некрологе припомнят покойнице внушенные нам за истекший срок в плане поставленной цели так и не оплаченные фантасмагории, с помощью коих, по примеру Творца, месила глину людскую для каких-то неведомых своих и, главное, тотчас же отвергаемых образцов с обращением их в труху и падаль. Неподкупные, с огромными кобурами у пояса, прокуроры прозревшего большинства разоблачат библиотеки и музеи как преступные хранилища улик в виде самовзрывающихся блестинок мысли, накопляемых ею ради губительного совращения новых поколений. Потому что разбуженный голод ума лишь множится от насыщенья и вдруг в самоубийственном восторге принимается запихивать к себе в утробу глыбы сокровенных тайн бытия, которые у самого Бога содержатся взаперти: черепушка с перекрещенными костями намалевана на дверях рая. Все будет поставлено ей в вину, в том числе кровопролитные войны, на которые надоумила и от которых не удержала: в гордыне презренья к телесному естеству людскому тешилась созерцаньем обезумевших наций, как в обнимку и в пене зубовной катаются по земле, железом и когтями выскребая отравленную внутренность друг у дружки.
Чуть не в одно дыханье произнесенный монолог выслушан был Никанором с неослабным вниманьем – казалось бы, знакомый ему в любых сеченьях, старый приятель раскрывался с неизвестной еще стороны. Судя по четкости отдельных фраз, суждения его родились не вчера, а давно тлели в потемках подсознанья, пока в поисках чего-то иного нашарил их на донышке ума. Правда, содержания тирады в целом Никанор как-то не ухватил, зато душок ее явно ему не понравился, ибо заводила в недозволенные дебри, где, несмотря на очевидную остроту вопроса, никто пока из ортодоксальных мудрецов почему-то не шуровал. Даже подумалось невольно: «... Ежели ты и взаправдашний гений, каким у себя в семье числился, то все равно ненаш!» Вместе с тем некая щемящая правота почудилась ему в заведомо порочной концепции Вадима Лоскутова на примере хотя бы своего отношения к нему тотчас при отстранении от учебы за отказ отречься от родителей. Помнится, с опущенной головой, как после публичной оплеухи, юноша стоял в конце коридора возле вывешенного списка исключенных, и он, Никанор Шамин, с его госстипендией, факультетскими должностями и отеческим расположением всесильного декана не посмел тогда подойти, в искреннейшем порыве возраста пожать руку раздавленному, стыдясь своей кроткой зависти, так как всегда считал его выше себя по всем статьям, кроме силы физической. И лишь теперь, когда размотавшийся оратор, пользуясь своими преимуществами, что башка лучше варит и язык хлеще подвешен, путать стал общеизвестные истины, где кремневая твердость полагается, Никанору пришлось одернуть дружка для возвращения к действительности.
– Уж извини, вдохновенье тебе прерываю... но ты столько премудрости враз наворотил, что натощак и не разобраться... – с нарочитой грубоватостью вступил он и своей гривой тряхнул, словно вырываясь из усыпительного плена непосильных ему хитросплетений. – Однако тут имею возразить слегка...
– Что ж, возрази, пожалуй, – чему-то недоверчиво удивился Вадим.
– С первой же минуты, как вошел, попритчилось мне, глубокоуважаемый, будто голосишко у тебя незнакомый мне прорезается... Не разберу – чей, но чужой и довольно отчетливый. Тоже и Бога чаще стал поминать, без чего обходился ранее, а напоследок и вовсе завираться стал. Треба, старик, ясность внести!
– Вот и внеси, подскажи, чему учит нас товарищ Скуднов...
– И кстати, не один Скуднов, а и повыше кое-кто! – наставительно и чуть ли не вразбивку досказал Никанор. – А учит он нас с тобой, товарищ Лоскутов, что не от мыслей войны заводятся, а из подлого алчного стремленья империалистов ко всемирному переделу сырья и рынков, вот от чего!
Казалось, только этой его оплошности и ждал Вадим.
– Вот-вот, и я туда же обходным путем добираюсь... – торжествующим фальцетом, заставившим Никанора поморщиться, рассмеялся он. – Раз повыше, то и следовало тебе прочесть соответственную ленинскую цитату о войнах, которую со средней школы знаешь наизусть. Но, к сожалению, она без должной брани, почти нейтральна применительно к обстановке, и ты попроще, подоходчивей предпочел, правда?.. А сказать тебе, почему?
Никанор в замешательстве молчал, жилы на лбу набухли и потемнели: верное свидетельство уместности еще не предъявленного обвиненья... И тут в памяти Вадима ожил один давний эпизод. В Старо-Федосееве не замечалось, чтобы мелкая птица селилась у них на кладбище, но так случилось однажды, Дуня принесла с прогулки выпавшего из гнезда воробьишку, что ли, их в этом возрасте не различишь. Обступившие вокруг домочадцы поочередно выражали участие сироте, спасенному от бродячих котов, – все стремились подержать его в руке. Вадиму навсегда запомнилось зрелище раскорякого птенца в просторной Никаноровой ладони, дрожавшей от боязни повредить доверенное ему существо. И вот тот же человек, той же пятерней, казалось, предназначенной для охраны жизни, с побитым видом уличенного оглаживал себе такое же монументальное колено.
Момент уклониться, обратить дело в шутку был упущен.
– Ладно, скажи, почему? – промычал наконец Никанор.
– А потому, что ты испугался, Ник.
– Чего же мне было пугаться, браток, с такими вот свинчатками? – спросил тот, показав на весу до сходной синеватости сжатые кулаки.
– Хорошо, я отвечу тебе, несмышленый юноша, – снова с незнакомой властной настойчивостью согласился Вадим. – По нашим старым отношеньям тебе незачем было вслух опровергать меня... Ты же понимаешь, что не о войнах шла речь! Но ты дважды, с повышением на пару децибелов поправлял меня в расчете на кого-то третьего, именно на подслушивающую за стенкой тварь, приспособительно к ее старческой немочи и улиточьему кругозору... чтобы осветила в своей липкой рапортичке, что конспиративный, с такими-то приметами, лоскутовский посетитель не внимал пассивно злостному трепачу, а возражал посильно, хоть и без особого успеха в силу нераскаянности последнего... Что, не правда? Но я не виню тебя, Ник, потому, что в стихийных процессах, когда большие числа обрушиваются на жизнь, в действие вступает ее стихийный же, защитный механизм. Она гнется, ложится, в щель земную зарывается, уходит в спячку, в тысячелетний анабиоз, становится бактериальной пылью, чтобы воспрянуть однажды, на теплом влажном ветру продолжить нечто прерванное посредине, даже хотя бы снова от печки начинать пришлось. Все истинно бессмертное отсрочек не боится, никуда особо не торопится, временем не дорожит. Так что со своими неслыханными возможностями, пускай еще дымясь после пройденной бури огненной, ты на пару с чудесной нашей Дунькой уйму великих дел натворишь, помогая своей нации возместить понесенный ею численный урон... По глазам читаю, чем ты сразить меня собрался, но брось, не лови меня на митинговых штучках вроде мнимых мечтаний о реставрации отечественного капитализма, на который мне, нищему из презренной ныне касты, ровным счетом начхать по наличию кое-чего более важного на свете! Кстати, умилительное зрелище: всю неделю, пока старик отбрыкивался на смертном ложе, его кормила с ложечки приходящая, из деревянного флигелька по соседству, добрая бабуся, которую как ни ладил посадить по подозренью к баптистской принадлежности, так и не успел, бедняга! Взамен прежнего обычая лгать о мертвых Бэкон предлагал говорить о них одну сущую правду, вот и произнесем мысленный некролог по поводу за пазухой у нас взлелеянного и безвременно ныне угасшего насекомого, которое уже не гадит, не жалит, не ползает по этажам, заглядывая в двери и кротким взором цепеня играющих детишек. Казалось бы, внешне ничтожный вопрос приобретает теперь первостепенное значение, так как до революции указанный старичок таился до поры в гуще пресловутого обездоленного большинства, призванного ею к жизни и коммунальным регламентом приравненного к высшей интеллектуальной верхушке, отсеянной в процессе строгой всенациональной дифференциации... Не хмурься: не имущественной конечно! Кстати, на судьбе одного востоковеда, знаменитого некогда Филуметьева, довелось мне убедиться недавно, насколько правдива библейская сказка о семи тощих коровах, выпущенных на поприще вольного соревнования.