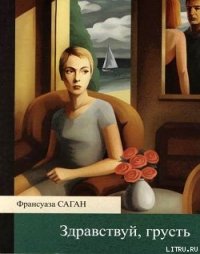Здравствуй, грусть (сборник) - Саган Франсуаза (серия книг .TXT) 📗
— Я тебе его покажу, — мягко сказал Люк. И, обернувшись ко мне, улыбнулся. Как будто пообещал. Франсуаза, не расслышав его слов, продолжала.
— В следующий раз, когда мы поедем, Люк, надо будет взять ее с собой. Она будет повторять: «Вот это вода, ну и вода!»
— Я, наверное, сначала искупаюсь, — сказала я. — А говорить буду потом.
— А знаете, это действительно очень красиво, — сказала Франсуаза. — Желтые пляжи с красными скалами и вся эта синяя вода, настигающая тебя сверху…
— Обожаю твои описания, — сказал Люк, смеясь. — Желтое, синее, красное. Как школьница. Как юная школьница, конечно, — добавил он извиняющимся тоном, оборачиваясь ко мне. — Бывают ведь и старые школьницы, очень-очень сведущие во всем. Поверните налево, Доминика, если сможете.
Я смогла. Мы подъехали к поляне. Посредине был большой бассейн с прозрачной голубой водой, при взгляде на нее мне заранее стало холодно.
Надев купальники, мы быстро пошли к краю бассейна. Я встретила Люка, когда он выходил из кабинки: вид у него был недовольный. Я спросила его — почему, и он улыбнулся немного смущенно:
— Не слишком я красив.
И, в общем, он был прав. Высокий, худой, сутуловатый, отнюдь не смуглый. Но вид у него был такой несчастный, он так старательно держал перед собой полотенце — ну прямо как мальчишка-подросток, — что я умилилась.
— Идемте, идемте, — сказала я весело, — не так вы безобразны, как вам кажется!
Он искоса взглянул на меня, чуть ли не шокированный, потом рассмеялся.
— А ты становишься непочтительной! Потом он разбежался и бросился в воду. Он сразу же вынырнул с отчаянными криками, и Франсуаза села на край бассейна. Она выглядела лучше, чем в одежде, и напоминала одну из луврских статуй.
— Зверски холодно, — сказал Люк, высунув голову из воды. — Надо быть сумасшедшим, чтобы купаться в мае.
— В апреле о купании не может быть и речи. А в мае — делай что хочешь, — наставительно произнесла мать Бертрана.
Но стоило ей попробовать воду ногой, как она сразу пошла одеваться. Я посмотрела на эту радостную, щебечущую группу вокруг бассейна, незагорелую, взбудораженную, и меня охватило какое-то тихое веселье, и в то же время не давала покоя вечная мысль:
«При чем здесь я?»
— Будешь купаться? — спросил Бертран. Он стоял передо мной на одной ноге, и я смотрела на него с одобрением. Я знала, что каждое утро он упражнялся с гантелями: однажды мы вместе проводили уик-энд и, приняв мою дремоту за глубокий сон, он на рассвете начал делать перед окном всякие упражнения; глядя на него, я втихомолку смеялась до слез, но он, видимо, считал, что выполняет их отменно. Сейчас Бертран выглядел очень чистеньким и здоровым.
— Это для нас возможность отполировать кожу, — сказал он, — ты посмотри на остальных.
— Идем в воду, — сказала я. Я боялась, как бы он не пустился в раздраженные разглагольствования о своей матери, поскольку она выводила его из себя.
С огромным отвращением я окунулась в воду, проплыла вокруг бассейна, чтобы не уронить достоинства, и вышла, дрожа от холода. Франсуаза растерла меня полотенцем. Я подумала, почему у нее нет детей, ведь она создана для материнства — широкобедрая, пышнотелая, нежная. Как жаль.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Через два дня после этого уик-энда, в шесть часов вечера, я встретилась с Люком. Мне казалось, что теперь между нами всегда будет стоять что-то неизмеримое, непоправимое, препятствующее малейшей попытке сделать еще какую-нибудь глупость. Я даже была готова, подобно юной деве XVII века, требовать от него извинений за поцелуй.
Мы встретились в баре на набережной Вольтера. К моему удивлению, Люк был уже там. Он очень плохо выглядел, казался усталым. Я села рядом с ним, и он сразу заказал два виски. Потом спросил, как обстоит дело с Бертраном.
— Все в порядке.
— Он страдает?
Он спросил это без насмешки, но спокойно.
— Почему страдает? — глупо спросила я.
— Он же не дурак.
— Не пойму, почему вы говорите со мной о Бертране. Это… м-м-м…
— Это второстепенно?
На этот раз вопрос был задан в ироническом тоне.
Я вышла из терпения:
— Это не второстепенно, но, в конце концов, не так уж серьезно. Уж если говорить о серьезных вещах, поговорим о Франсуазе.
Он засмеялся:
— Подумай, как забавно получается. В историях такого рода… ну, скажем, партнер другого кажется нам препятствием более серьезным, чем наш собственный. Конечно, плохо так говорить, но когда знаешь кого-нибудь, то знаешь и его манеру страдать, и она кажется вполне приемлемой. Вернее, нет, не приемлемой, но знакомой, а значит, не такой ужасной.
— Я плохо знаю манеру Бертрана страдать…
— У тебя просто не было времени. А я вот уже десять лет женат и хорошо изучил, как страдает Франсуаза. Это очень неприятно.
Мы замолчали на какой-то момент. Каждый из нас, наверно, представлял себе Франсуазу страдающей. Мне она виделась отвернувшейся к стене.
— Это идиотизм, — сказал наконец Люк. — Видишь ли, все куда сложнее, чем я думал.
Он выпил виски, запрокинув голову. У меня было такое чувство, будто я сижу в кино. Я говорила себе, что не время смотреть на все со стороны, но ощущение нереальности оставалось. Люк здесь, он решит, как быть, все будет хорошо.
Немного наклонившись вперед, он равномерным движением поворачивал стакан в руках. Говорил он, не глядя на меня.
— Разумеется, у меня были связи. Для Франсуазы большей частью неизвестные. Кроме нескольких неудачных случаев. Но это всегда было несерьезно.
Он выпрямился, вид у него был рассерженный.
— С тобой, кстати, это тоже не очень серьезно. Ничего серьезного не может быть. Ничего не стоит Франсуазы.
Я слушала без всякой боли, сама не зная почему. Мне казалось — я сижу на лекции по философии, не имеющей ко мне никакого отношения.
— Но разница есть. Сначала я хотел тебя, как любой мужчина моего склада может хотеть молодую девушку, гибкую, упрямую и несговорчивую… Впрочем, я тебе это говорил. Я хотел приручить тебя, провести с тобой ночь. Я не думал…
Он вдруг повернулся ко мне, взял мои руки в свои и стал говорить с нежностью. Я видела его лицо Очень близко, каждую его черточку. Я слушала его, боясь дышать, вся превратилась в слух, освободившись, наконец, от самое себя. Внутреннего голоса слышно не было.
— Я подумать не мог, что могу тебя уважать. Я очень уважаю тебя, Доминика, и очень тебя люблю. Я никогда не буду любить тебя «по-правдашнему», как говорят дети, но мы очень похожи с тобой, ты и я. Я хочу не просто переспать с тобой, я хочу жить вместе с тобой, провести с тобой отпуск. Мы дали бы друг другу радость и нежность, со мной у тебя будет море и деньги, и что-то похожее на свободу. Мы бы меньше скучали вдвоем. Вот так.
— Я тоже хотела бы этого, — сказала я. — Потом я вернусь к Франсуазе. Чем ты рискуешь? Привязаться ко мне, а потом страдать? Ну и что из того? Это лучше, чем скучать. Лучше быть счастливой или несчастной, чем вообще ничего, ведь так?
— Конечно, — сказала я.
— Чем ты рискуешь? — повторил Люк, будто убеждал самого себя.
— И потом — страдать, страдать, не надо ничего преувеличивать, — вставила я. — У меня не такое уж нежное сердце.
— Вот и хорошо. Посмотрим, подумаем. Поговорим о чем-нибудь другом. Хочешь еще выпить?
Мы выпили за наше здоровье. Мне было ясно одно — кажется, мы уедем вдвоем на машине, как я уже представляла себе, но считала невозможным. Потом я что-то придумаю, чтобы не привязаться к нему — ведь заранее известно, что все пути отрезаны. Не так уж я глупа.
Мы гуляли по набережным. Люк смеялся вместе со мной, болтал. Я тоже смеялась, я говорила себе, что с ним надо всегда смеяться, и в общем ничего не имела против. «Смех сопутствует любви», — утверждает Ален. Но в данном случае речь шла не о любви, только о соглашении. Кроме всего прочего, я, наконец, была почти горда собой: Люк думает обо мне, уважает меня, хочет меня; я имела право считать себя до некоторой степени интересной, вызывающей уважение, желанной. Маленький страж моей совести, показывающий мне всякий раз, когда я начинаю думать о себе, образ довольно невзрачный, возможно, был слишком суров, слишком пессимистичен.