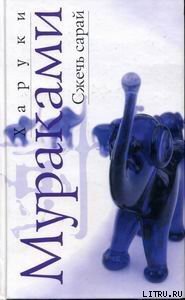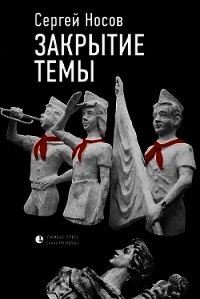Грачи улетели - Носов Сергей Анатольевич (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
– А на кой ей там ваучер, в Германии?
– Ну, вдруг. Зачем оставлять?
“Ваучер” тогда было самое популярное слово. Еще недавно никто и не знал, что такое “ваучер”. И вдруг – ваучеризация всей страны. Всем по ваучеру, включая грудных младенцев. Когда кампания начиналась, авторы идеи сулили цену бумажке равную примерно цене двух автомобилей “Волга”. Одна впечатлительная знакомая Щукина говорила, что, когда получит свой ваучер, повезет его непременно в Сибирь, ибо там он будет стоить не менее миллиона. Ха-ха. Щукин не стал искушать судьбу; он уступил свою долю промышленного потенциала приватизируемой страны перекупщику ваучеров у метро “Невский проспект” – и получил на руки сумму эквивалентную, если по европейским ценам, пяти чашкам бразильского кофе, – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Чибирев свой и женин ваучеры инвестировал честно и прямо – прямо в какой-то вроде бы честный якобы строительный комбинат, чтобы через несколько лет получить дивиденды – восемь копеек.
Прощай, русская земля! Уже ты за холмами.
Холмов не было. Польша из окна автобуса представала, как и следовало ожидать, страной равнинной. На полях лежал снег. Зима в этом году выдалась какой-то бесснежной, но в феврале вдруг повалило. Конечно, снегом нас не удивишь. Не на снег обращали внимание. Щукину бросалась в глаза прежде всего простота, разноцветность и негромоздкость всяких там сооружений, то и дело проплывавших перед окнами автобуса, – промышленных, полупромышленных; у нас таких не было еще: словно собранные из детского конструктора, – если трубы заводские, то как будто они из картона, если корпуса – кубики и калабашечки. Невысокие ровные заборы огораживали территории, на удивление свободные от какого бы то ни было хлама. Это были заводики вроде пепси-кольных каких-нибудь, эка невидаль, но на Щукина произвело впечатление, он умилился. А Чибирев, когда въехали в первый же городок, отметил обилие спутниковых антенн (у нас “тарелки” на фасадах домов тогда начинали лишь появляться). И в каждом селении обязательно был костел. Чибирев сразу уснул. Щукин маялся, знал, что сна этой ночью не будет: как-никак биоритм, отвечающий графику, – этой ночью он должен был дежурить как раз, – его подменили.
По-настоящему в сон Щукина потянуло, когда уже стало светать. Утром был туман, даром что зима. Автобус остановился около живописной площадки для отдыха. Местный житель продавал здесь корзины, плетеную мебель, плетенных из прутьев причудливых птиц. “Покупайте”, – сказал водитель, чем сразу навел на мысль о комиссионных. Пассажиры высыпали наружу. Рассматривали, восторгались, но никто ничего не купил. Оба водителя вышли тоже – потягивались, разминали суставы, о чем-то беседуя с продавцом. Чибирев ходил среди птиц-плетенок, было зябко ему. Щукин смотрел на все это в окно, прикрыв один глаз. Уснул он прежде, чем автобус тронулся дальше.
А проснулся уже на границе с Германией – товарищ в бок его ткнул. “Уже?” – Щукин достал паспорт и протянул оказавшемуся перед глазами проверяющему; тот небрежно, как бы нехотя взял паспорт в руки, взглянул на визу и быстро возвратил Щукину. Он бы, может, и не стал беспокоить спящего, кабы не разбудил сосед.
Здесь уже снега не было. Поля, к удивлению путешествующих, были зелеными, травка росла. Местный обычай требовал обозначать их по краям проволочным ограждением, это тоже отметили.
Ну и дорога, автобан. А какой русский не любит быстрой езды?
Короче, когда въехали в Билефельд, светящийся витринами, Щукин и Чибирев были поражены тем, что витрины были без стекол… Как будто без стекол – настолько их стекла были чисты и прозрачны. Из череды светящихся картинок одна обоим врезалась в память – когда приостановились перед поворотом, Щукин сказал Чибиреву “смотри”, и тот увидел в ярком квадрате окна множество каких-то шевелящихся штук, – в каждой что-то вращалось, или что-то смещалось, или что-то качалось – с каждой что-то случалось (впрочем, одно и то же, постоянно повторяющееся), но то, что с каждой происходило, происходило ни для кого, потому что некому было смотреть на эту беспокойную кинематику, хотя почему ж? – смотрели и видели Чибирев и Щукин. Первый решил, что здесь продают часы; второй – что это мастерская по ремонту перпетуум-мобиле.
Встретил их Леня Телегин, он был один, Тепина не было.
– Я боялся, вы в ушанках приедете.
– И в валенках, – в тон ему добавил Чибирев. Телегин заплатил за проезд обоих, а багаж оплачивать не хотел, и тут у него приключился небольшой спор с водителями; обе стороны ссылались на прежние договоренности. Щукин и Чибирев деликатно отошли в сторону.
Когда утряслось, покатили тележки. Железнодорожный вокзал был рядом.
– А Тепа где?
– Тепа не доехал. Перехватим по пути. Он экономит на поезде.
– Обещал, между прочим, встретить на машине.
– А в аквапарк не обещал сводить?
Уже на перроне Телегин спросил:
– Сколько комплектов?
– Восемьсот, – сказал Чибирев.
– Ни хера себе!.. – повеселел.
Поезд сильно отличался от наших электричек, и прежде всего сиденьями. Вагон был пустым почти, ехали негр еще и пожилая чета.
Телегин стал расспрашивать о России. Как там дела, елы-палы? Скоро ли будет гражданская война? Оторвут ли президенту яйца? В те дни серьезно говорили о возможности гражданской войны в РФ, слишком уж поляризовалось общество, слишком обострился конфликт между ветвями власти.
– Что, правда, у вас на улицах стреляют?
В Германии он жил, по его же собственному выражению, как белый человек, то есть пользовался благами, которые тогда немцы предоставляли выехавшим из России евреям. Когда учились в институте, никому и в голову не приходило, что Телегин – “не русский”, был он “русский” как все, что, по сути, скорее означало вообще отсутствие определенной национальности, чем соответствие какой бы то ни было. У Телегина была репутация выпивохи, лоботряса, никаких особых талантов за ним не замечалось, к тому же он охотно рассказывал анекдоты, которые в ту пору многие находили антисемитскими, – правда, лишь по той деликатной причине, что это были анекдоты еврейские (спустя годы их бытование будут связывать не с происками мракобесов, но с известной чертой еврейского национального характера – самоиронией). Когда весной девяносто второго Телегин с женой и дочкой уехал по еврейским каналам в Германию, один из бывших однокашников так и сказал: “Так ведь он же анекдоты про евреев рассказывал!” Некоторые серьезно полагали, что он купил справку о происхождении (такое практиковалось). Но покупать что-либо подобное у Телегина необходимости не было: его бабушка по материнской линии законно лежит на еврейском секторе кладбища в Сестрорецке.
Это было время, когда Германия испытывала по отношению к России сложный комплекс переживаний, который, немного упростив, можно было бы в целом охарактеризовать словом “влюбленность”. Любы мы были Германии Чудом Объединения двух ее неравнозначных частей, сломом Берлинской стены, крахом Варшавского договора, выводом войск и провозглашенными принципами, один лучше другого. Признбемся, что эта влюбленность была все же поверхностна, неглубока (ибо как, в самом деле, можно полюбить Сибирь, диких медведей, морозы и “русскую мафию”?) и представляла собой только отсвет другой, но зато уже настоящей любви, искренней, неподдельной, к одному совершенно особому объекту – человеку по фамилии Горбачев. Как любила Германия Горбачева! Нарекла его “лучшим немцем года”, обласкала, утешила, издала, наградила. Германия недолюбливала Ельцина за то, что он не любил Горбачева, но и Ельцина, даже и того была готова полюбить – за компанию с Горбачевым – за то хотя бы, что не посадил Горбачева на кол. А мог. От большой любви Германии к Горбачеву перепадало понемножку многим в России, а еще больше – за ее пределами, тем, кто решился искать спасение на немецкой земле от всего, что умом не понять, уж немецким-то точно. Антисемитизм пресловутый – само собой, или, если ты не еврей, мафии в твой адрес угрозы (за твои – ее – смелые разоблачения), или мстительность тайных структур большевиков-реваншистов (да хоть за неуплату членских взносов) – все могло послужить основанием для предоставления убежища. Особенно ценились заслуги в борьбе с тоталитаризмом. Требования были минимальные. Телегин знал одну супружескую чету из числа “борцов с тоталитарным прошлым” – год назад, пожелав достойно покинуть Россию, супруги озаботились коррекцией своих биографий; одетые по моде десятилетней давности и слегка примоложенные, они сфотографировались на фоне Кремля с плакатом “Свободу академику Сахарову!” – сам Сахаров к этому времени уже отошел в мир, где нет времени, а если есть и если видел с небес этот странный пикет, наверное, удивлялся анахронизму. Снимок получился достаточно убедительным, чтобы борцы за свободу, оказавшись в Германии, получили жилье и пособие. Другой отъехавший предъявил выписку из протокола партсобрания, на котором он критиковал непонятно кого и непонятно за что (в свете какой-то непонятной германцам дискуссии об “интенсификации производства” на каком-то ужасно конкретном непонятно каком предприятии); протокол был датирован позднезастойным 1984 годом, что делало критика непонятно чего едва ли не предтечей М. С. Горбачева. В принципе для зацепки мог подойти любой документ, даже справка о задержании в милиции. Главное, надо было знать, куда предъявиться и что сказать, предъявляясь. Телегин, быстро освоившийся в Германии, знал где и что говорить. Он бескорыстно, от чистого сердца был готов любому помочь, кто пожелал бы остаться, и некоторым взаправду помог – например, Тепину.