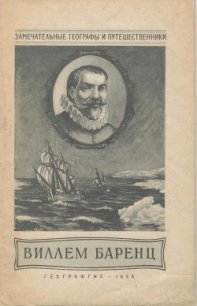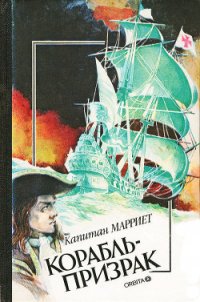Больше никогда не спать - Херманс Виллем Фредерик (библиотека электронных книг txt) 📗
— Странно только, что от этих творцов не осталось автобиографий, — говорит Миккельсен.
— Даже если исторически это и не так, всё равно мы когда-нибудь сможем это доказать. Динозавры тоже не писали автобиографий, но затем и нужны геологи, чтобы узнать, как они жили. Очень возможно, что были какие-нибудь древние расы людей, которые зашли по пути технического прогресса гораздо дальше, чем мы, — но наши потомки через пару миллионов лет наверняка их догонят. Подумай только: камни, живые организмы, солнце — всё это сделано людьми, в гигантских лабораториях!
— Ну и откуда же взялись эти лаборатории?
— Я знаю, что всё это непросто доказать; но ещё труднее доказать, что это не так. Смотри сам: времени полно. Я даже не пытаюсь сказать, что это произошло миллиарды лет назад; пусть миллиард в миллиардной степени лет назад! Сколь угодно давно. Невозможно представить себе, чтобы время когда-то началось. Всё, что об этом говорят — ерунда. Если есть бесконечно большие числа, то время тоже должно быть бесконечно. Так что могло случиться всё, что угодно; и когда я говорю «всё, что угодно», я в точности это и подразумеваю! То, что я тебе только что рассказывал — про древних людей, про их лаборатории — это сущие пустяки по сравнению с тем, что ещё могло случиться, и о чём мы пока даже не догадываемся.
Миккельсен говорит:
— Тебя послушать, так на других планетах и даже в других галактиках тоже есть люди.
— А почему бы и нет?
— Если там есть люди, или были люди, то у них, может быть, гораздо более развита космонавтика, чем у нас.
— Ну да, и что?
— Просто странно, что ни в каких геологических отложениях старше третичных никогда не находили никаких следов деятельности человека — ни топоров, ни наконечников от стрел, не говоря уж о ракетных моторах или, скажем, бортовом передатчике с летающей тарелки.
— Ты что же, не слушаешь? Я же тебе объясняю, что всё сделано людьми: радиолярии, брахиоподы, археоптерикс, древовидные папоротники, всё, понимаешь?
— Но они слишком уж похожи на современные живые организмы, про которые мы точно знаем, что мы их не сами сделали.
Квигстад подбирает под себя ноги, вытягивает руки вперёд и встаёт.
— У ребёнка сиамских близнецов, — говорит он, — два пупка. Ты в курсе?
Мы с Арне хохочем. У Миккельсена же такой вид, словно он мысленно заносит это в свой архив вместе со всеми остальными полученными им сегодня ценными сведениями.
27
Мне любопытно, почему всё, что есть у Арне, выглядит так бедно, и я спрашиваю, хорошие ли у него отношения с отцом. Мой вопрос его очень удивляет:
— А у тебя что, плохие?
— Мне было семь лет, когда мой отец погиб.
— Значит, ты его едва помнишь.
— Да, но, наверное, я очень его любил. Иногда мне кажется, что я даже в эту экспедицию пошёл только затем, чтобы его порадовать.
— Кто знает.
— Я, конечно, не верю в тот свет, но иногда мне кажется, что я до сих пор многое делаю ради отца. Может быть, оттого, что я не хочу признаваться, что на самом деле делаю это ради матери, которая ещё жива.
— Ты очень серьёзно размышляешь об этих вещах, — замечает Арне.
— И всё-таки это очень просто. Если бы я вообще не знал, кем был мой отец, если бы я, например, был подкидышем, я поступал бы ровно так же, но совсем из других побуждений. Значит, у тебя хорошие отношения с отцом?
— Может быть, даже слишком хорошие. Знаешь, мой отец довольно богатый человек, ему всегда сопутствовала удача. А я — его единственный сын. От этого тоже возникают разные проблемы. Спокойной ночи.
Солнечное утро. Все мы отправляемся исследовать окрестности, каждый своей дорогой. Моя кожа гладкая, сухая и коричневая. Не могу понять, от загара или от грязи, смешанной с мазью от комаров. Желания вымыться ни у кого из нас нет, а о бритье даже и речи не идёт. Греть для этого воду слишком хлопотно, а бриться в холодной воде было бы слишком болезненно, даже если не думать о комариных укусах. От щетины зудят щёки, но она имеет практическую ценность в качестве защиты от насекомых.
Время от времени я пытаюсь ходить без накомарника, чтобы избавиться от ощущения стеснённости. Ни у Квигстада, ни у Миккельсена накомарников нет вообще. Наверное, у Квигстада слишком жёсткая борода, а Миккельсен слишком невкусный.
Я брожу целый день, но так и не нашёл ничего такого, что могло бы хоть как-то подтвердить мою сенсационную гипотезу. Я еле-еле исписал полстраницы блокнота.
В шесть часов, возвращаясь к палаткам, я снова вижу Арне. Он прилагает невероятные усилия, чтобы сфотографировать большой горбатый валун. Сам он стоит на другом камне — на глыбе высотой в два человеческих роста.
Арне выполняет своего рода гимнастику. Резко приседает, водит головой вперёд и назад, держа перед собой фотоаппарат. Я с разбега забираюсь к нему на камень. Он нажимает на спуск своей «Лейки» и бормочет:
— Perhaps…
— Почему ты всегда говоришь «perhaps», когда фотографируешь?
— Обычно у меня получаются плохие фотографии.
— Да ладно тебе! Сейчас фотографировать способен кто угодно. Прочти какую-нибудь книжку.
— Да нет, дело в другом. Посмотри, линза болтается. Отсюда и все беды.
— Купи новый фотоаппарат. Или попроси у отца.
— Ох. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он с большим сарказмом спрашивает у меня, не фотографировал ли я в последнее время. Когда я показываю ему весь этот бардак, он тут же предлагает подарить мне новую «Лейку».
— Ну и?..
— Я не решаюсь.
— Неужели надо специально решиться на то, чтобы получить новый фотоаппарат в подарок от отца?
— Понимаешь, я не хочу себя баловать.
— Но ведь хороший фотоаппарат ты мог бы использовать для работы, а не для развлечений.
— На самом деле нет никакой разницы. Мне не по себе от всего нового, от всего дорогого. Я ничего себе не позволяю. И всегда так себя вёл. Меня часто подозревают в скупости. Я и правда был бы скуп, если бы копил деньги, но я никогда этого не делал. Помнишь, сегодня ночью мы разговаривали о твоём отце?
— Да. А что?
— То, что я ничего себе не позволяю, не имеет никакого отношения к моему отцу. Но это тоже происходит оттого, что я считаюсь с некоторыми вещами, в которые и сам не верю.
— И во что же ты не веришь?
Арне потирает свободной рукой свою шею, свои волосы. В другой руке он по-прежнему держит фотоаппарат.
— Не хочешь, не отвечай, — смущаюсь я. — Мне, вообще-то, всё равно.
— Да нет, ничего, как-то раз я рассказал об этом соседу в поезде, просто незнакомому человеку. Я верю, то есть, получается так, как будто я верю, потому что на самом деле я в это совсем не верю, в общем, что если я буду ограничивать себя во всём, терпеть больше лишений, чем другие люди, то когда-нибудь на мою долю выпадет нечто потрясающее.
— И что же это будет такое?
— Какое-нибудь крупное открытие.
— Но неужели для этого обязательно нужно фотографировать сломанной камерой?
Арне, посмеиваясь, убирает фотоаппарат в потёртый чехол. Всё, что я могу ему сказать, он слышал уже сотню раз, в том числе и от себя самого. И всё-таки он продолжает разговор. Чтобы посмотреть, сможет ли он сбить меня с толку?
— Колумб, — говорит он, — открыл Америку на гребном судне.
— Ну, тогда же не было никаких других кораблей.
— И всё-таки он это сделал.
— Открытие Америки — это одноразовое действие, дважды её не откроешь. Твой соотечественник Тур Хейердал приплыл на Гавайи на плоту, но Гавайи давно уже были открыты.
— Он хотел доказать, что до них можно добраться и на плоту.
— А ты что, хочешь доказать, что старой «Лейкой»…
— Да нет же. Но для меня было бы кошмаром отправиться в экспедицию с самой новой палаткой, самыми дорогими инструментами, самым лучшим фотоаппаратом, и вернуться оттуда без всяких сколь-нибудь значительных результатов.
Хотел ли я сойти с камня в знак того, что разговор окончен? Что со мной случилось?