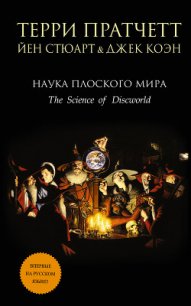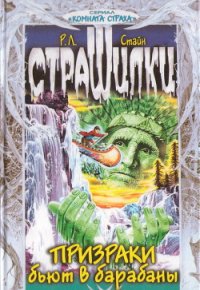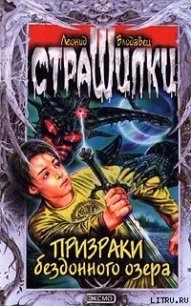Призраки Дарвина - Дорфман Ариэль (книги хорошего качества .TXT, .FB2) 📗
Но настоящим бриллиантом в этой сокровищнице оказалась толстая синяя папка, которая, должно быть, служила для тренировки памяти, туда она записывала детали каждую ночь, чтобы поделиться по возвращении. Это была суть ее поисков. Вот только под замком, как и ее разум, чтобы ни малейшее проявление любопытства не помешало мне изгнать посетителя из нашего мира. Как и любому наркоману, мне нужно было одним махом завязать, не позволив даже упоминанию об этом кавескаре слететь с моих губ, отравить горло, сжечь кишечник. Не надо даже соваться в этот отчет, приказывал я себе, Кэм обещала зачитывать его «пухлыми влажными губами», она повторяла слова так часто, что это было похоже на предательство — подслушивать ее прошлое, пролистывать архивы, просматривать ее слова без шуток, комментариев и сияющих глаз. Это доказательство любви к ее Фицрою, которая привлекла Кэм в Берлин навстречу жестокой судьбе, и его власти над моей любовью.
Его власть — в решении причинить ей боль. И ее выбор — забыть его. Единственное преимущество, проистекавшее из всего этого ужаса, заключалось в том, что она могла начать все заново, восстановиться во всей своей чистоте, пойти по пути, который могла бы выбрать, не появись я на пороге в день рождения, размахивая фотографией. Он стерся из ее разума, хотя вместе с ним канули в Лету и другие, куда более восхитительные воспоминания, но в целом все к лучшему. Никогда больше я не буду сосредоточивать свою жизнь вокруг черных глаз Генри, никогда больше не буду неразрывно связывать нашу природу с его. Может быть, он — судьба, Господь, история или гребаный обломок Берлинской стены — оказал нам услугу, очистив Камиллу от любых воспоминаний о его печальном лице, распахнув дверь передо мной и позволив сделать то же самое. И тем не менее захлопнуть дверь не получалось, поскольку недели и месяцы превращались в два года одинокой бессонницы в ожидании, когда хотя бы проблеск потерянных восьми лет всплывет в темноте ее снов, и я не мог побороть одержимость, пока в мозгу крутился один и тот же вопрос: как он это сделал, каким образом вмешался в судьбу женщин, которых я любил? Или это просто мое больное воображение сделало его козлом отпущения, обвинив том, что он якобы спровоцировал смерть моей матери? И несчастный случай с Кэм? Но мама сбилась с пути, а Кэм удалось узнать имя Генри, отыскать фото, установить обстоятельства похищения, маршрут и список других пленников. Значит, на одну он напал, потому что она была слишком далеко от цели, а на другую — потому что она оказалась слишком близко?
Случайность сводила с ума. Чем больше я сравнивал маму и Кэм, тем меньше общего видел. Камень, падающий на голову одной женщине холодной ноябрьской ночью на севере планеты, и другая женщина, свалившаяся в мутные воды Амазонки на жарком юге, — какая между ними связь? Что, если это случайные события, такие же произвольные, как выбор бедняги Фицроя Фостера для эксперимента, ситуация, не имевшая смысла или направления, как сама эволюция, просто цепочка случайностей, которые казались схемой для кого-то вроде меня, кто родился среди вида, выжившего в поисках высшего порядка, который стал могущественным и господствовал над природой и царствовал над земным шаром, связывая случайные события, соединяя причину и следствие, сочетая сферы далекие и отличные друг от друга? Почему я вообще решил, что у посетителя был план, цель, рациональный мотив? Догадалась ли Камилла, прежде чем обломок Берлинской стены…
Почему? Почему вообще Берлинская стена?
Мог ли мой посетитель, практиковавший первобытный коммунизм, равнодушный к личному имуществу, разозлиться из-за того, что стена рухнула и современная версия коммунизма потерпела неудачу, мог ли осудить Камиллу за то, что она бросилась отплясывать на руинах мечты Карла Маркса? Но это государство диктатуры коммунизма, удушающего и бюрократического, не имело ничего общего со свободным, эгалитарным образом жизни индейцев Огненной Земли, реальной связи между ними не было. Почему его должно волновать то, что случилось в мире? Понимал ли он сложности двадцатого века, этот человек, живший во всех смыслах в доисторические времена?
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Или я недооценивал его, приходя к выводу о безразличии, заранее осуждая на смерть, как это делали при жизни его похитители, зрители и ученые? Может быть, Генри понимал больше, чем я предполагал. Может быть, мертвые получали ежедневные сводки о том, как их потомки грабят планету, завещанную им, — и если да, то не будет ли он ненавидеть капитализм? В конце концов, именно торговцы уничтожили его и его племя. Предприниматели, которые выставляли экзотических дикарей в человеческих зоопарках, предприниматели, которые запечатлевали их диковинные черты на открытках, что продавались за пенни. Кэм, разумеется, знала ответ, она бы смогла отделить правду от лжи, наверное, она успела до несчастного случая упорядочить этот хаос, предложить более связное и обоснованное объяснение.
Камилла — единственный человек, которого я не мог вовлечь в свои печальные догадки. Месяцы собирались в годы, один год перетекал в другой, по мере того как она приближалась к той, к кому когда-то ползла черепашьим шагом, Кэм Вуд, которая приветствовала меня в день моего четырнадцатилетия, постепенно сливалась с Кэм Фостер, которая в последний раз говорила со мной и заверяла, что мы исполнили свой долг. Две эти Камиллы накладывались друг на друга, противоречили друг другу и вступали в сговор, когда моя жена начала отстаивать независимость и решилась выйти из дома одна и провести вне его сначала час, затем два, а после и всю вторую половину дня, а я обнаружил, что меня охватывают в равной мере надежда и отчаяние.
По мере приближения девятого ноября 1991 года, этой зловещей годовщины, я ожидал каких-то существенных изменений. Врачи всегда упоминали два года как возможный предел для ее состояния — цифра взята с потолка, я знал, что это среднее, медианное значение, но тем не менее именно она повторялась в справочной литературе. И разве даты, их повторение не важны? Одиннадцатое сентября и так повторялось само собой. А Кэм ведь тоже выбрала четырнадцатое июля днем нашей свадьбы? Разве сам я не угодил в плен шаблонов и отголосков прошлого? Так почему бы девятого ноября не замкнуть один круг и не начать другой?
Этот день настал и прошел без малейших изменений. Ну, почти. Около полудня раздался звонок в дверь, и некоторое время спустя мой отец поднялся и сообщил, что к нам пришел доктор, который, по его словам, знает Кэм, работал с ней в Париже, зовут его Эрнест Дауни и это профессор из Стэнфорда. Если мы не возражаем, он хотел бы засвидетельствовать свое почтение, а если пациентке нездоровится — на самом деле Кэм только-только уснула, — возможно, мистер Фицрой Фостер уделит ему пару минут своего драгоценного времени? Я велел отцу выпроводить этого типа, вспомнив, что это шапочное знакомство и у Кэм от него мурашки, она называла его жутковатым. Я меньше всего хотел, чтобы с ней контактировал кто-то из ее прошлого.
Прошло несколько минут. Я слышал, как дверь внизу открылась и захлопнулась, и наблюдал из-за занавески, как доктор Дауни уходит, сгорбившись и глядя себе под ноги. А потом он вдруг резко развернулся и уставился на дом, прямо на окно второго этажа, откуда я шпионил за ним. Генри сделал меня экспертом по лицам, и мне не нравилось то, что я видел, не нравилось, что этот человек, казалось, знал, что я задумал и где я нахожусь, словно бы его взгляд, как ножницы, мог рассечь занавески и обнаружить мое присутствие. Но он не мог меня видеть — да и осмотр нашего дома и места, где я прятался, длился не более нескольких мгновений, а затем непрошеный гость исчез.
За исключением этого небольшого происшествия, быстро преданного забвению и, конечно, не доведенного до сведения Кэм, я прожил тот день, как и любой другой день с момента ее возвращения и начала вечного процесса выздоровления: мы были заперты в нашей комнате, как звери в неволе, вдали от мира, как будто снаружи бушевала ужасная эпидемия, а не манило бесконечное множество соблазнов и возможностей, к которым проникалась моя жена, входя во вкус.