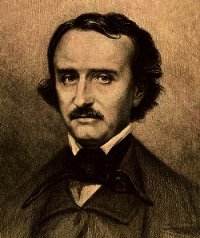Гений места - Вайль Петр (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Так начался писательский период в жизни Гюстава Флобера, длившийся тридцать шесть лет, — до смерти. Чисто писательский, сугубо писательский, исключительно писательский («Я — человек-перо») — возможность никогда не отвлекаться ни на что другое (музыку и живопись он лишь полушутя называл «низшими искусствами»), не заботиться о публикациях и гонорарах, с прославленной медлительностью составляя и переставляя слова. Письма Флобера пестрят свидетельствами этого мазохистского наслаждения: две фразы за пять дней, пять страниц за две недели.
Ничего, кроме кропотливого складывания букв. Этого права добился даже не сам молодой Флобер, а его организм, запротестовав так энергично и болезненно против неверного хода жизни. Знает ли история литературы столь мощный телесный довод в свою пользу?
Этот склонный к аскезе мономан вообще был в высочайшей степени телесен, физиологичен, но опять-таки строго литературно. Во французском гастрономическом обиходе есть понятие — «нормандская дыра». Когда человек чувствует, что переедает, а трапеза еще продолжается и прекращать неохота, то надо прерваться, выпить большую рюмку кальвадоса и передохнуть минут пять, тогда в желудке образуется «дыра» и аппетит возобновится. Переполняясь словами, Флобер вырывался на несколько дней в Париж, чтобы снова получить заряд зависти-превосходства и возвратиться в свое нормандское захолустье, свою дыру, вызывавшую у него время от времени животное отталкивание, физиологическую реакцию: «У меня несварение от излишка буржуа. Три ужина и обед! И сорок восемь часов в Руане. Это тяжело! Я до сих пор отрыгиваю на улицы своего родного города и блюю на белые галстуки»; «Я прошел пешком через весь город и встретил по дороге трех или четырех руанцев. От их пошлости, их сюртуков, их шляп, от того, что они говорили, у меня к горлу подступала тошнота…» Пищеварительный процесс, столь важный для француза, тем более нормандца, проходил у Флобера бурно, но со знаком минус. Родной город он не переваривал буквально.
Он совершенно непристойно радовался выпавшему на Руан граду: «Всеобщее бедствие, урожай погиб, все окна у горожан разбиты… Ужасно забавно было смотреть, как падал этот град, а вопли и стенания тоже были из ряда вон».
Самое оскорбительное, что мог сказать Флобер о не понравившемся ему Бордо, — обозвать «южным Руаном». На это незначительное замечание стоит обратить внимание — ввиду его вопиющей несправедливости. Во всей Франции не сыскать столь непохожих друг на друга городов: средневековый облик Руана, его островерхие кельтские, британские дома с балками наружу, его узенькие извилистые улицы — и не по размеру просторный Бордо, с широкими проспектами и пустыми площадями, весь будто разом построенный в XVIII веке. Как же слепо надо было ненавидеть Руан, чтобы возвести его имя в степень утратившего семантику ругательства на манер мата. «Здесь прекрасные церкви и тупые жители. Они мне отвратительны и ненавистны. Я призываю все небесные проклятия на этот город, поскольку он был свидетелем моего рождения. Горе стенам, которые укрывали меня! Горе буржуа, которые знали меня ребенком, и мостовым, о которые я снашивал каблуки!»
Что дурного в этом самом очаровательном из провинциальных городов Франции, с его действительно выдающимися храмами: кафедралом, древним восьмиугольным Сен-Маклу, светло-светло-серым снаружи и внутри Сент-Уаном? Чем виноват Руан, очень мало изменившийся со времен Флобера тот же рисунок улиц, те же здания, даже население то же, сто двадцать тысяч?
Можно предположить, что город был обязан быть омерзительным, чтобы существовал веский довод в пользу глухого затворничества в Круассе.
И еще, конечно, комплекс самозащиты, отказ от глубокой нутряной принадлежности к тем самым руанцам, которых Флобер так показательно презирал. Косвенно такой вывод подтверждается проницательным набоковским анализом «Госпожи Бовари»: «Эмма живет среди обывателей и сама обывательница. Ее пошлость не столь очевидна, как пошлость Оме. Возможно, слишком сильно сказать о ней, что банальные, стандартные, псевдопрогрессивные черты характера Оме дублируются женственным псевдоромантическим путем в Эмме; но не избавиться от ощущения, что Оме и Эмма не только фонетически перекликаются эхом друг с другом, но в самом деле имеют нечто общее — это нечто есть вульгарная бессердечность их натур. В Эмме вульгарность, пошлость завуалированы ее обаянием, ее хитростью, ее красотой, ее изворотливым умом, ее способностью к идеализации, ее проявлениями нежности и сочувствия и тем фактом, что ее короткая птичья жизнь заканчивается человеческой трагедией».
Если развернуть набоковский пассаж по схеме «человек смертен, Кай — человек, значит, Кай смертен», то получим «Эмма — это я, Оме — это Эмма, значит, Флобер — это Оме».
О чем-то сходном догадались братья Гонкуры, записавшие в своем дневнике: «Есть смутное ощущение, что он предпринимал все свои великие путешествия отчасти для того, чтобы поразить руанскую публику». И еще одно гонкуровское наблюдение — о парижской активности Флобера: «Я начинаю думать, что нечто нормандское — причем хитрое, закоренелое нормандское — есть в глубине этого человека, такого внешне открытого, такого экспансивного, с таким сердечным рукопожатием, выказывающего столь нарочито пренебрежение к успеху, рецензиям и публичности, и которого я вижу тайком собирающего слухи, налаживающего полезные социальные связи, работающего над успехом усерднее, чем кто-либо другой…»
Уже обосновавшись навсегда в Круассе, Флобер все продолжал строить заведомо, очевидно — для него самого — беспочвенные планы дальних путешествий. Беспрестанное стремление убежать, либо в пространство, либо во время, — совершенно Эммины мечты о дальних странах и далеких эпохах, хрестоматийный образец мещански романтического эскапизма. Эпохи Перикла, Нерона, Ронсара, Китай, Индия, Судан, пампасы, о которых он грезил вслух, были далеко, а Париж в двух часах сорока минутах на поезде. Там-то он становился тем первопроходцем и конкистадором, который шокировал Гонкуров.
Париж резко менял Флобера — или просто обнажал суть? Так или иначе, Париж он не смел ненавидеть и тем более презирать, как Руан. В Париже он только и становился настоящим руанским провинциалом. Перед столицей Флобер делался Эммой, которой стоило только услышать от Леона «В Париже все так делают» — и она покорно отдалась. Париж и связанная с ним (в нем!) известность — греза несчастной госпожи Бовари, отсюда и ее претензии к несчастному мужу: «Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака! Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция».
О ком это написал Гюстав Флобер?
Памятник Дюма — на площади генерала Катру, 17-й аррондисман (округ), рядом с парком Монсо, район приличный, но не слишком дорогой и престижный. В этом округе Дюма жил в разное время в разных местах. Сейчас он, в двух кварталах от одной из своих квартир, глядит на сына. В косом крестe пересечения бульвара Мальзерб с авеню де Виллье два памятника: белый мрамор арт-нуво сына и классическая черная бронза отца. Старший Дюма вознесен на высоченный пьедестал, у подножия которого хватило места для читателей. Гюстав Доре старательно воспроизвел социальный срез аудитории: интеллигент и работница углубились в книгу, а неграмотный, надо полагать, крестьянин приклонил ухо, не пропуская ни слова. Похоже на известную группу у радиоприемника «Слушают Москву».
Даже сейчас огромное количество французских школьников знает свою историю по романам Дюма, не говоря уж про сведения зарубежных школьников о Франции. Представительным такое знание не назовешь, но подобный исторический дисбаланс — часть истории. Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий были значительнее Тиберия, Клавдия, Калигулы, Нерона, о которых мы знаем куда больше и подробнее, и дело лишь (лишь!) в том, что первому от Р.Х. веку, а не второму, достались Тацит и Светоний. Дюма написал «Королеву Марго» — и слава Богу, потому что Генрих IV был великим монархом. Но Людовика XIV — Короля Солнце — затмевает малосущественный Людовик XIII, потому что за него сражались мушкетеры. Тут с историческим масштабом не повезло. Можно об этом пожалеть, но глупо сетовать на предпочтение романов трактатам.