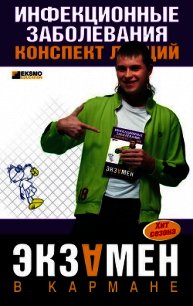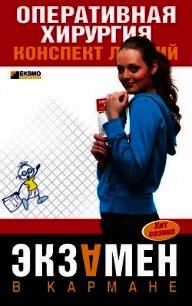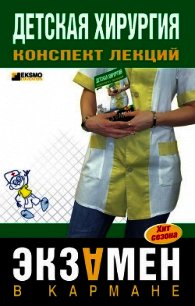Моя хирургия. Истории из операционной и не только - Убогий Андрей Юрьевич "Неизвестный автор" (книги хорошего качества TXT, FB2) 📗
Баран

Еще вспоминается ясное майское утро – и то, как я, студент-пятикурсник, везу на каталке в морг тяжелое мертвое тело. Мы оба в белом: я в халате, а покойный – под простыней, из-под которой желтеет ступня с клеенчатой красной биркой. Отвезти тело в морг – последнее, что осталось мне сделать после ночного дежурства; а поскольку морг в клинике на Покровке располагался аж за инфекционным корпусом, каталка долго стучала колесами по асфальту, а затем хрустела по гравию. Управлять ею было непросто: пожалев пожилую сестру-напарницу, я взялся все сделать один – и каталка то заезжала в лужи, то шла юзом и ударялась колесами о бордюры. Я уж боялся, что мертвый, не ровен час, с нее соскользнет.
Но худо-бедно мы двигались. А утро было таким ярким и свежим, каким оно может быть только в мае, да еще когда тебе самому двадцать лет. Влажная зелень сверкала в лучах еще низкого солнца, на небесную синь было больно смотреть, а неугомонные соловьи высвистывали в ближайшем овраге свои сочно-упругие трели. Конечно, я думал о том, что обидно и глупо быть мертвым в такое прекрасное утро. И как все молодые, я был уверен, что уж со мной-то подобной глупости не случится: я, если когда-нибудь и умру (что еще, разумеется, было под очень большим вопросом), то уж, по крайней-то мере, в такую собачью погоду, с которой не жалко расстаться.
Я нажимал на резиновые рукояти носилок, каталка скрипела, ее колеса визжали, покойник, стуча головой, ерзал взад и вперед: картина была, скорей, грустная. Но я был, сказать откровенно, счастлив. И молодость, и чудесное утро, и воспоминания честно отработанной ночи – мне удалось помыться [2] на прободную язву и на кишечную непроходимость, – и, главное, чувство, что мне открывается необозримый мир хирургии, единственный мир, достойный мужчины, – все это, взятое вместе, наполняло меня такой радостью и благодарностью к жизни, что в этих ликующих чувствах растворялось даже сознавание того, что я везу на каталке смерть. Она, смерть, словно таяла в остром чувстве радости существования – как и мертвое тело под простыней вдруг почти растворялось в лучах ослепительно бьющего солнца.
На газоне перед инфекционным корпусом пожилой пациент в полосатой пижаме делал зарядку. Он медленно приседал, вытягивая руки вперед, а потом неуклюже вставал. Я подумал: «Да неужели я тоже когда-нибудь стану таким неловким и старым, с круглым животиком под полосатой пижамой? Нет, до такого позора я точно не доживу…»
Пациента в пижаме тот груз, что я вез, напугал: мужчина замер и полным ужаса взглядом провожал каталку. Мне захотелось крикнуть ему что-нибудь ободряющее, но ничего, кроме слов: «Все там будем!» – не приходило в голову, и я промолчал.
На зеленой лужайке у морга щипал травку привязанный на веревке баран. Он был стар, худ и давно не стрижен: серая шерсть свалялась клоками. Пару раз я его видел и раньше, но все забывал спросить: что этот баран здесь делает? Ни на шерсть, ни на мясо он явно не годился. Нас баран тоже заметил, перестал щипать траву и вытаращился тупо и оцепенело: вот именно как на новые ворота.
А когда я с каталкой приблизился, баран судорожно дернулся – и упал набок. «Что за чертовщина? – подумал я. – Он что, тоже мертвых боится?»
Но мне было не до того, чтобы возиться с упавшим бараном и оказывать ему медицинскую помощь: тем более что я не знал, как это делается. Мне надо было открыть обитую цинком дверь – амбарный замок взвизгнул, словно живой, – а потом закатить носилки с покойным внутрь и поставить их возле стола с желобками в холодном и пахнущем смертью сумраке морга.
Когда я, уже налегке, вышел наружу, баран, как ни в чем не бывало, пасся на ярко-зеленой траве среди желтых цветов одуванчиков. Я обошел его стороной, чтобы не испугать; но на этот раз он меня не заметил и не стал падать в обморок.
Вернувшись в свою хирургию, я спросил пожилую и все на свете знающую медсестру:
– Петровна, а что это там за баран пасется, возле инфекции?
– Какой баран? – переспросила она. – А, баран! Так его держат для эритроцитов.
– В смысле?
– Ну, делают же анализы с бараньими эритроцитами? Тебе лучше знать, ты почти доктор.
– Так он поэтому и людей в белых халатах боится? Думает, снова идут ему кровь пускать?
– Ну да, – засмеялась Петровна. – Как подойдешь к нему, так он сразу бряк в обморок! За ним и пастух числится, на полставки. У него, говорят, в трудовой книжке так и записано: «Пастух барана».
– Что-то я там пастуха не заметил…
– Так он, небось, снова в запое. Чего ж и не пить – при такой-то работе?
И Петровна, вздохнув, принялась крупным почерком переписывать назначения из историй болезни в процедурный лист: у нее работа явно была посложнее, чем у пастуха барана. А я, отправляясь на лекцию по хирургии, уж конечно, и думать не думал, что всю жизнь буду время от времени вспоминать то далекое майское утро – и барана, упавшего в обморок на зеленой лужайке.
Боль

Хочу сказать боли несколько слов благодарности. Известно, что ее, боли, задача – предупреждать нас об опасности или неполадках внутри нашего тела. Она вестовой и сторож одновременно; не будь ее, наш срок на земле был бы много короче.
А я признателен боли, которую мне довелось пережить, еще и за то просветление, что наступало, когда боль наконец утихала и я ощущал себя словно родившимся заново. Ведь цель нашей жизни и состоит в просветлении; как же не быть благодарным тому, что нас приближает к нему – пусть и таким жестким способом?
И вот сейчас я даже не знаю, что вспомнить: зубную ли боль, от которой ломит полголовы, – или боль в седалищном нерве, когда не можешь пошевелиться без того, чтобы тебя не прострелило от поясницы к стопе?
Конечно, любая достойна хвалебного слова; но я склонюсь все же к боли в спине. Тем более что эта боль напрямую связана с моей врачебной работой – и с долгим стоянием за операционным столом, и с ежедневным перетаскиванием тяжелых больных с носилок на койки или обратно. Главное свойство такой боли – внезапность. Обыкновенно она настигает где-нибудь на бегу, как гром среди ясного неба. Только что ты был бодр и куда-то спешил – и вдруг тебя как пригвоздило горячею молнией боли к тому месту, где она тебя поразила. Так и замираешь посреди коридора: вот так же, наверное, оцепенела и жена Лота, обратившаяся в соляной столп.
Последний раз, когда подобная боль пронзила меня, я рухнул на четвереньки и простоял на полу пять часов. Ни одеться (я только что встал с постели и собирался идти на работу), ни даже справить нужду я не мог. Пока не приехал мой сын-хирург и не привез сильного обезболивающего, я так и стоял голый на четвереньках. Любая попытка пошевелиться вызывала такой приступ боли, что квартира оглашалась страдальческим стоном.
Конечно, это было несладко: ни себе самому, ни другому я не пожелал бы пережить это вновь. Но вот боль, словно вдоволь натешившись беспомощной жертвой, стала мало-помалу стихать. Видимо, помогло и лекарство, что мне уколол Дмитрий, и время, которое, как известно, есть лучший целитель. Я смог кое-как подняться, одеться и, опираясь на две лыжные палки, добрести до машины, потом заползти – опять-таки на четвереньках – на заднее сиденье, и сын повез меня к неврологам.
Удивительно действие лидокаиновой блокады. Вот ты, кряхтя, укладываешься на кушетку (а боль еще очень сильна); вот тебя протирают спиртовой салфеткой (сколько раз ты и сам обрабатывал спиртом других и вдыхал его бодрый, решительный запах); вот ты вздрагиваешь от укола иглы (хотя он на фоне главной боли кажется комариным укусом) и затем чувствуешь тугое распирание от нагнетаемого в тебя лекарства. И вдруг – тебе даже не верится – боль начинает стихать… Помню, сын, стоявший рядом во время блокады, сказал: