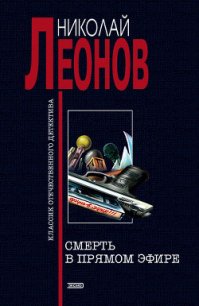Прошли времена, остались сроки - Крупин Владимир Николаевич (книги онлайн полностью бесплатно .txt) 📗
– Все ли узнаешь-то? – спросила Рая.
– А как и не уезжал.
Рая остановилась, оглянулась.
– Вот уж именно, как и не уезжал.
– А жизнь-то, Раечка, и прошла. – Николай Иванович тоже остановился. – Прошла, – повторил он о своей жизни как о чужой, – прошла жизнь и кончилась, одна душа жива, слава Богу, одним Святым Духом живы, Раечка. А уж где Бог привел быть, в тюрьме ли, в колхозе ли, – Его воля.
– Его, – откликнулась Рая.
Видно было отчетливую на закате колокольню, деревья, выросшие на ней. На месте остальной церкви стоял железобетонный стеклянный магазин. За ним зеленело, темнело кладбище.
Жена Алексея, теперь уже вдова Нюра, так, наверное, и не поняла, что Николай – младший брат ее мужа.
– Есть же брат-от, – бестолково повторяла она, – Арсенька-то есть ведь? Есть. И Григорий убитый.
Николай Иванович сжал Рае локоть, чтоб она больше не объясняла, и пошел ко гробу. Все было снаряжено по-хорошему, даже венчик, пусть пожелтевший и старенький, покрывал лоб. В углу стоял образочек соловецких угодников Зосимы и Савватия. Старичок сидя, сливая слово в слово, тягучим одинаковым голосом читал Псалтырь. Николай Иванович встал в изножье гроба, читая отходные молитвы и вспоминая почему-то свой почерк, которым в памятку об упокоении вписал брата Алексея.
Старичок прервал чтение, встал, и они похристосовались.
– Иди отдохни, – сказал Николай Иванович, – я почитаю. Иди, тебя Рая покормит.
– Пойдем, дядя Степан, – сказала Рая.
Старичок ушел. Николай Иванович посмотрел на брата пристально, но никак не мог признать в нем брата Алешу. Алеша был старше на три года, а в парнях эта разница огромна. Мало они общались. Разные были. Алеша – парень лихой, а Николай тихий, да вдобавок перед войной связался он с сектантами, которые как раз и внушили ему мысль о грешности держания оружия в руках. Но и как было не возникнуть тогда сектантам, когда церкви порушили, когда священников посажали, оставили только «красных» попов, «обновленцев», когда все запрещалось, шло по-собачьи, через пень-колоду, своей смертью и то редко умирали, умирали не дома, с людьми – что хотели, то и делали, сказать ничего было нельзя. Это теперь прорвало, но прорвало в другой край, так подносится, будто и не жили люди, будто было повальное доносительство, поголовная трусость, нет, не было этого. Уж где-где, может, где в городах, а в деревне все знали друг друга, знали вкруговую, кто чего стоит, своих не выдавали, а в деревне все свои да наши. Уж какая трусость, чего напраслину на народ говорить, когда в полный голос ругали власти, осуждали гонения на церковь, разве не тогда Николай Иванович слышал выражения: «Серп и молот – смерть и голод», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь», когда Сталин произнес вслед за этим склоняемые всеми лизоблюдами слова: «Жить стало лучше, жить стало веселее», разве не говорили повсеместно и вслух эту же фразу, добавляя ее словами: «Шея стала тоньше, но зато длиннее», а в Вятке говорилось и того чище: «Вшей стало больше, вши стали крупнее». Разве не утаивали от переписи куриц, даже иногда и овец, разве возможно в деревне что-то от кого-то утаить? А когда описывали за недоимки вещи, неужели же не прятали у соседей зимние пальто, посуду, самовары? А самый страшный удар, конечно, был по церкви. Когда шли сюда, когда отдыхали, оглянувшись на Святополье, не утерпел Николай Иванович, спросил о судьбе Гриши Плясцова, именно Гриша сбрасывал колокола, именно Гриша завязывал веревочную петлю на церковном кресте.
– И похоронить-то было некому, – ответила Рая, – от сельсовета наряжали, на навозной телеге увезли. Да не специально, не подумай, народ у нас не злой, так сошлось, машины были в разгоне, а телеги, какие сейчас телеги, эту отыскали. Да и закопали за оградой. И ведь тоже не специально, опять же не подумай, а возчик поленился на глинистом месте копать, а тут песок брали, яма была готовая, туда и свалил.
– Нет, Раечка милая, – высказался Николай Иванович, – случайного в мире не водится. И телегу эту, и яму такую за оградой он заслужил.
Николай Иванович равномерно, глуховатым, но очень разборчивым голосом читал псалмы. Сколько уже раз, сотни, наверное, он прочитывал Псалтырь целиком. От первых, настраивающих на высокий подвиг внимания слов: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» до последних, благодарно-торжественных: «Всякое дыхание да хвалит Господа», – читал он с радостью, читая всегда будто впервые, проваливаясь в глубину и сокровенность каждой фразы и невольно и благоговейно, и счастливо замирая и крестясь во многих местах.
Только в этот раз не дали дочесть подряд, ведь Люба же здесь была, Люба, дочь дяди Ксенофонта, сестренница его. Вот Любу он узнал бы при любой погоде. Она сразу его закрутила и защебетала.
– Ой ты, Селифонтовна, Селифонтовна, дай человеку поесть. Ведь ее, Коля, еще с до-войны Селифонтовной зовут. Люба, сама-то хоть поешь.
– Читай, сестра, «Отче наш», – велел Николай Иванович. – Или без «Отче наша» за стол садишься?
– Ты какой сестре, родной или двоюродной? – спросила Люба. – Родная-то знает, знаешь, Рая, знаешь, от меня не потаишься, и хорошо, что знаешь, это я всю жизнь комсомолка, всю жизнь носом в портреты прожила, когда мне было молиться, есть-то было некогда, ой, Коля, как-нибудь сядем, ты надолго? Я тебе порассказываю, ой, Коля, всего нахлебалась: и горького, и кислого, и соленого, оглянулась – вот уж старость – мат-тушка моя, кто ж за меня сладкое-то съел?
Николай Иванович остановил ее жестом, прочел «Отче наш», перекрестился. Видно было ему, что и Рае хотелось перекреститься, но, видно, постеснялась Любы. Сели. Люба велела и вдове Нюре садиться. Люба вообще всем распоряжалась, причем так, что выходило, она одна знает, что, как и кому делать. Только это была видимость. Все делала Рая. Накормила и отправила на работу племянников, детей брата Арсения, Геню и Виталия, но не копать могилу, как велела Люба, а «косануть» лужок.
– Могилу и с утра выкопаете, а сейчас подвалить траву в самый раз.
Распорядилась она и бутылкой. Плеснула племянникам, Любе, велела выпить Нюре, посмотрела на Николая Ивановича.
– Ой нет, – отвечал он, – грехов на мне как паутины на кустах, но этого нет.
– Тюрьма от греха спасла, – брякнула Люба, – в тюрьме этого не положено.
– Не пил он никогда, – заступилась Рая. – Этой разорвы, я водку разорвой зову, никогда не убудет.
– От гонений водка крепнет, – сказала Люба и захохотала.
– Вот и загнать бы ее чертям большеносым! – пожелала Рая и перевела разговор: – Этот старичок Степан у нас из переселенцев, он не наш, из высланных, из Белоруссии или с Украины, молчит все. Но добрый, всем помогает, ласковый всегда, один живет. Всегда читать зовут. По имени Степан, а как по отчеству – и не знаю.
– Тридцать два года на транспорте, тридцать два года, – говорила Люба. – Осталась без старика, были на очереди, уж очередь подходила, а умер – с очереди сняли, видно, в коммуналке помирать. Да ничего, соседи хорошие. Цветы им оставила, чтоб поливали, и сюда. Я уж поезжу, поезжу да и совсем сюда махну. Я же тут все начинала. С меня надо летопись колхоза «Ленинский путь» писать.
– Ой-ой, ой-ой, – вставила вдова Нюра, – чего-то все сижу и сижу, глоток глотнула, так вроде ожила. Чего-то ведь делать надо.
– Сиди, – велела Рая, – сиди, поешь. Умер, дак не убежит. Гроб готовый, могилу Геня с Витей выроют с утра. Пироги бабы стряпают, отдыхай, тебе год за год надо отдыхать. – И объяснила Николаю: – Целый год Алеша не вставал, целый год. И все молча. А до того, как слечь, всех пугал, все боялись, Нюра толком-то и не сыпала: пожара боялись, спички прятали. Все равно где-то найдет, где-то и бензину найдет, плеснет на землю, бросит спичку, огонь пазгает, а он кричит: «Севастополь горит!»
– Ордена не все нашла, – сказала вдова Нюра, – ордена были в доме престарелых учтенные, а выходили – двух не хватило. Алексей и рукой махнул. Да и кому их оставлять, Женечка в Каме утонул.