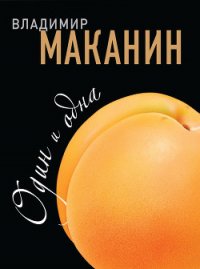Андеграунд, или Герой нашего времени - Маканин Владимир Семенович (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
Мы опять на кухне, кофе; и Курнеев заводит старую песню:
— Мы, Петрович, мужчины — мы за женщину в ответе...
Я молчу.
— Если мужчина вдруг заметил грешок за чьей-то женой, не надо, чтоб знали все, ты согласен? Не надо лишней болтовни. Не надо скандала. Спокойно предупредить мужа — это и значит помочь семье пережить трудный час...
Он ждет. Я молчу.
Маленькими глотками пьем замечательно вкусный кофе.
— Семью люди обязаны беречь. Просто и честно. Обязаны...
Да, да, обязаны, — киваю. Вера — женщина горделивая, красивая, с манерами. Я (мысленно) зову ее мадам.
Но неужели он думает, что я что-то о ней скажу? Или шепну. Неужели я похож на человека, который бережет семьи? Обидно. Еще и стукаческим способом... Или в его инженерской голове нашептывание о женах как-то увязано с тем, что я сочиняю (вернее, сочинял) повести, чего ты, мил друг, ко мне липнешь? — хочется мне вспылить. Да я сам наставил бы тебе пару ветвистых на лбу, если бы не опередил этот скот Ханюков. Техник, мать его. По ремонту!
Конечно, молчу. (Ни в коем случае!) Да и кофе допили. Курнеев держит чашку на весу, держит наклонив, и тяжелые последние капли кофе падают на блюдце. Черные на белом. Мол, вот бы какими слезами людям плакать.
— Таких слез нет, не бывает. А жаль, — говорит он.
Молчу.
— ... Ты, конечно, помнишь — ты же у нас человек образованный, — что троянская бойня началась с убежавшей от мужа Елены. (Вероятно, в ответ надо будет выдать ему что-то из Хайдеггера.) Елена как Елена. Вот так-то, Петрович... Семья рушится со времен Гомера. Однако... однако все еще цела. Что-то держит семью!
Я тупо смотрю на кофейную гущу. Его жена изменяет ему с Ханюковым, с техником, с большим умельцем — притом изменяет тихо, элегантно, без шума и скандала, чего ему еще надо?
— Вся жизнь, Петрович, держится на семье. Весь мир — на семье. Нация — на семье. И даже жизнь холостяков, неугомонных бабников и донжуанов — тоже держится на этой самой семье...
Чувствую, как натягиваются нервы. Он провокационно исповедуется, возможно, лукавит, а из меня выпирает подлинное сочувствие — стоп, стоп, слушать слушай, но только и всего.
Чем проще сдерживать язык, тем необходимее. Сторож отвечает за квартиры. А не за жен в возрасте сорока пяти лет.
В дверях Курнеев стал извиняться, мол, занял мое время. (И свое потерял, ничего от меня не узнав.) Тем не менее, он позвал меня поесть и выпить.
— Пойдем, пойдем, Петрович. Посидишь с нами...
Я спешно ответил — да, но испытывал усталость, как человек, в течение часа-двух боровшийся с сильным и матерым гипнотизером. Клонило в сон. Вот ведь муж! (Непрост и ведь не обычный ревнивец.) Я вдруг подумал: Курнеев не хочет скандала, Курнеев не хочет ее поймать — хочет честно предостеречь. Притушить огонь по-тихому. Удел стареющих. Он уже не ищет потерянного ребенка; он ищет только ее.
К нашим дням от связанного пространства (и бытия) бывшей общаги остались лишь коридоры. И летучие запахи. Стелющийся запах жаркого в столь поздний час дает направление: дает вычислить (как ни длинен коридор) квартиру, где свадьба и где из последних сил хлопочет нарядная Вера Ильинична Курнеева, выдавшая дочку замуж. Гости разошлись, финиш, остались человека четыре, но Вера, мадам, все так же свежо улыбается мне и — куда ж ей деться! — приглашает бомжа за стол.
пели; у Курнеева замечательный голос; Вера, с сединой, красивая, сидела возле мужа.
Мне предложили фотографии молодоженов — всюду дочка, похожая на Веру, но в белой фате. Молодые в машине, молодые меняются кольцами, поцелуй. Я расслабился. В тепле общего застолья наше время уходит не больно, нигде не жмет, не тяготит, — еще и поют! Вот только подпевали сегодня Курнееву неважнецки, не певцы, люди случайные, да еще вдруг пришел жалкий Тетелин. Как и я, втиснулся к столу и сразу хвать, хвать куски себе на тарелку. И жует торопясь. Двое приглядывающих за жильем (я и Тетелин) на такой огромный многоквартирный дом — оно и немного. Но на одной, не слишком богатой свадьбе, два голодных сторожа — уже перебор. К тому же Тетелин сел напротив меня. Сейчас будет приставать с разговором. Я ушел. (Я сыт, я пьян, чего еще.)
Они проговаривали сотни историй: то вдруг с истовой, а то и с осторожной правдивостью вываливали здесь, у меня, свой скопившийся слоеный житейский хлам. «Заглянуть к Петровичу» — вот как у них называлось (с насмешкой, конечно; в шутку). «Пришел исповедоваться?» — ворчливо спрашивал я (тоже шутя). Пробуя на мне, они, я думаю, избавлялись от притаенных комплексов, от предчувствий, да и просто от мелочного душевного перегруза. На Западе, как сказал Михаил, психиатры драли бы с них огромные суммы. А я нет. А я поил их чаем. Иногда водкой. (Но, конечно, чаще являлись с водкой они, с бутылкой.) Так что я был нужен. Нужен как раз и именно в качестве неудачника, в качестве вроде бы писателя, потому что престиж писателя в первые постсоветские времена был все еще высок — так раздут и высок, что, будь я настоящим, с книгами, с фотографиями в одной-двух газетенках, они бы побоялись прийти, позвонить в мою дверь даже и спьяну. (А если бы, отважась, пришли, говорили бы газетными отрывками.)
Часто о политике (особенно в зачин): «Ну что там?» — спрашивает — и кивок головой наверх; игривый кивок, пока, мол, он три дня пьянствовал, я ведь мог успеть смотаться в Кремль и поболтать там со скучающим Горби. О ценах, конечно. Я нехотя отвечал. Потом о жене. О детях. О суке начальнике. О плохо стоящем члене (на свою жену — слушай, это волнами или уже навсегда?). О соседях. О Солженицыне. О магазинах на Западе и у нас. О Крыме — опять выворот в политику, — побежали по кругу. Но поскольку ко мне пришли, и как-никак вечер, гость с исповедью, я всегда их терпел и выслушивал. (Не испытывая от их пьяненького доверия ни даже малой гордости.) Знал, конечно, что за глаза по некоему высшему своему счету они меня презирают. Они трудятся, а я нет. Они живут в квартирах, а я в коридорах. Они если не лучше, то во всяком случае куда надежнее встроены и вписаны в окружающий, как они выражаются, мир. Да и сам мир для них прост. Он именно их и окружает. Как таз. (С крепкими краями по бокам.) Подчас разговор — вялая вата, туфта, мой собеседник бывает что и глуп, косноязычен, но даже в этом (напряженном для меня) случае на душе у него в итоге заметно теплеет. Чем я его так пригрел, для меня загадка. Разве что по времени он выговорился, а по ощущению — освободился. Улыбается. Готов уйти. Он свое получил и сейчас унесет с собой. Что именно? — он тоже не знает, но как-никак полученное тепло при нем. Теперь я не нужен. Мой гость встает уйти и — у самых дверей — вдруг радостно вспоминает, что в общем я говно, неработающий, нечто социально жалкое, сторож.
— Так и живешь в чужих стенах? — говорит он, качая головой и уходя. Этот запоздалый плевок (самоутверждения) — его неловкая плата за мою готовность выслушать его накопившиеся житейские глупости.
Иногда, если у него беда, я из чувства человечности провожаю его. Из чувства человечности он тоже никак не может от меня отлипнуть. Как родные. Мы бредем по этажу коридора, по ступенькам подымаемся на другой, также притихший и безлюдный этаж — уже ночь. Я провожаю его до квартиры, до пахнущих женой и детьми кв метров. До самых дверей, тут он вспоминает, что надо покурить. Мы стоим у дверей и курим.
— Иди, иди. Тебе ж завтра работать, — говорю я.
Он кивает:
— Да, тебе-то хорошо (то есть неработающему). Такие, как ты, хорошо устраиваются, — говорит он, еще разок в меня походя плюнув. И пожелав спокойной ночи отмашкой руки, скрывается в темном проеме двери.
Я топаю по коридору назад. Прихожу, убираю со стола, перемываю его и свою чашки. И машинально напеваю песню, которую когда-то вогнала мне в душу покойная мать.