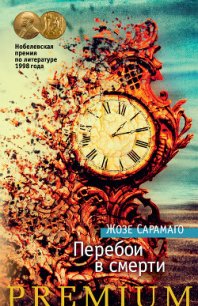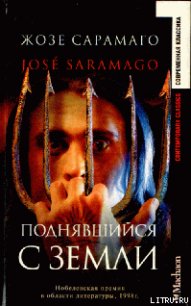Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Двигаясь так, словно какой-то вихрь нес его, Иосиф вошел в дом, притворил за собою дверь и постоял минуту, давая глазам привыкнуть к полутьме. Рядом бледно, бесполезно горела плошка. Проснувшаяся Мария лежала на спине, пристально и внимательно глядела прямо перед собой и, казалось, ждала. Иосиф молча приблизился, медленно стянул простыню, закрывавшую ее. Она отвела глаза, взялась за подол рубахи, но успела поднять ее лишь до живота, как Иосиф, склонившись над ней, сделал со своей рубахой то же самое, а Мария разомкнула колени. Впрочем, может быть, ноги ее раздвинулись еще раньше, во сне, и она осталась лежать так, охваченная то ли непривычной утренней истомой, то ли предчувствием, посещающим супругу, которая знает свой долг. Бог, как известно, вездесущ и, наверно, был тогда где-то поблизости, но в качестве бесплотного духа не мог видеть, как соприкоснулись их волосы, как его плоть проникла в ее плоть, исполняя свое предназначение, а когда священное семя Иосифа излилось в священное лоно Марии, Бога, наверно, уже не было там, ибо на свете есть нечто, недоступное разумению даже и того, кто сам это сотворил. Выйдя во двор. Бог не мог слышать сдавленного, как бы предсмертного хрипа, который издал мужчина, и уж подавно — почти неуловимого стона, который не смогла сдержать женщина. Через минуту, а может, и раньше, Иосиф поднялся, высвободив Марию, и та одернула рубаху, натянула простыню, закрыла лицо сгибом локтя. Став посреди комнаты, воздев руки, устремив глаза в потолок, муж произнес самую ужасную из всех молитв: Благодарю Тебя, Господи мой Боже, за то, что не создал меня женщиной. Бога к этому времени не было уже и во дворе, ибо не затряслись, не обвалились стены дома, не разверзлась земля. Тут в первый раз прозвучал тихий голос бессловесной доселе Марии, смиренно произнесшей:
Благодарю Тебя, Господи, за то, что создал меня по воле Твоей. Заметьте, что слова эти ничем не отличаются от других, всем известных и прославленных: Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Очевидно, что женщина, которая могла произнести те слова, способна произнести и эти. Потом Мария, жена плотника Иосифа, поднялась со своей циновки, скатала ее вместе с мужниной и сложила вдвое покрывавшую их простыню.
А жили Иосиф и Мария в Галилее, в местечке Назарет, малолюдном и бедном, в доме, почти неотличимом от соседских, — в такой же, как у всех, убогой и кривой лачуге, сложенной из кирпича, обмазанной глиной и, чтобы меньше уходило материала, прилепленной к холму, склон которого заменял одну стену. Никаких тебе архитектурных изысков — все как у всех, по раз и навсегда установленному шаблону, что, никогда не приедаясь, повторялся снова и снова. Как нам уже известно, Иосиф был плотником, недурно знавшим свое ремесло, однако начисто лишенным воображения, мастерства или выдумки, что и обнаруживалось всякий раз, как заказывали ему работу более или менее тонкую. Не думаю, однако, чтобы это обстоятельство .возмутило даже самых требовательных моих читателей, — всем ведь понятно, что человеку, которому едва перевалило за двадцать, живущему в краю со столь ограниченными возможностями и еще более скудными потребностями, Просто негде набраться опыта, невозможно развить эстетическое чувство, без чего достичь в своем деле совершенства никак не получится. И потому, не желая сводить достоинства человека к тому, в какой мере можно считать его истинным мастером, скажу, что Иосиф, несмотря на молодые годы, считался в Назарете человеком праведной жизни и богобоязненным, ревностно и неукоснительно исполнял все обряды, и, хоть Бог не отметил его, не выделил из всех прочих смертных даром красноречия, однако же суждения его были здравы, замечания точны и уместны, особенно если беседа предоставляла возможность допустить сравнение или дать определение, как-то связанные с его ремеслом, — упомянуть, например, о том, как ладно пригнан и плотно сколочен мир вокруг. Но поскольку Иосиф от природы был лишен крылатого, воистину творческого воображения, то ни разу за всю свою недолгую жизнь он не высказал ничего такого, что осело бы в памяти жителей Назарета и передавалось бы из уст в уста от детей к внукам, не произнес ни одной из тех чеканных фраз, смысл которых, заключенный в прозрачную словесную оболочку, столь ослепительно ясен, что в грядущем сможет обойтись без назойливых толкователей, или же, напротив, достаточно темен и туманен, чтобы в наши дни превратиться в лакомый кусочек для эрудитов разного рода.
Что же касается дарований и талантов Марии, то при всем желании не удалось обнаружить ничего особенного у той, что и в замужестве осталась хрупкой шестнадцатилетней девочкой, каких во все времена, в любых краях приходится тринадцать на дюжину. Впрочем, Мария при всей своей хрупкости работает, как и все женщины, — ткет, прядет и шьет, каждый Божий день печет в очаге хлеб, спускается к источнику за водой, а потом, по узким тропинкам, по крутому склону, с тяжелым кувшином на голове, карабкается вверх, под вечер же по тем же тропинкам идет собирать хворост, а заодно заполняет свою корзину высохшим навозом, колючими ветками чертополоха и терновника, которые в таком изобилии растут на крутых назаретских откосах, ибо ничего лучше их не измыслил Господь для того, чтобы растопить очаг или сплести венец.
Вес набирается изрядный, и лучше бы эту кладь навьючить на осла, если бы не одно немаловажное обстоятельство — осел определен на службу Иосифу и таскает его деревяшки.
Босиком ходит Мария к ручью, босиком — в поле, и убогие ее одежды от каждодневных трудов рвутся и пачкаются, так что приходится их снова и снова штопать, зашивать, стирать. Мужу достаются и обновки и заботы, Мария же, как и все тамошние женщины, довольствуется малой малостью. И в синагогу ей можно войти лишь через боковую дверь, как Закон предписывает женщинам, и соберись их там вместе с нею хоть тридцать душ, сойдись они хоть со всего Назарета, хоть со всей Галилеи, надобно будет ждать, покуда не придут, по крайней мере, десять мужчин: тогда лишь может начаться богослужение, в котором им, женщинам, позволено принять участие лишь в качестве безмолвных и сторонних наблюдательниц. Не в пример мужу своему, Иосифу, она не славится набожностью и благочестием, хоть дело тут не в каких-то ее моральных изъянах, а в языке, придуманном скорей всего мужчинами и приспособленном ими для себя, так что хоть женский род у слов этих есть, но отчего-то почти не в ходу.
Но в один прекрасный день, спустя примерно четыре недели с того незабываемого утра, когда тучи на небе налились небывалым лиловым цветом, Иосиф — дело шло к вечеру, — сидя у себя дома на полу, ужинал, запуская, как тогда было принято, всю пятерню в чашку, а Мария стоя ожидала, когда он насытится, чтобы доесть остатки, и оба молчали — одному сказать было нечего, а другая не знала, как облечь в слова то, что мелькало у нее в голове, — в калитку постучал один из тех нищих, которые, хоть и не были в Назарете в диковинку, забредали туда очень редко, поскольку место это было убогое, а обитатели его в большинстве своем жили скудно и трудно, какового обстоятельства не могли не учитывать многоопытные и проницательные попрошайки, к делу приспособившие теорию вероятности и уяснившие, что в Назарете им не обломится.
Но Мария отложила в чашку добрую порцию чечевицы с горохом и пряным луком, составлявшую ее ужин на сегодня, и отнесла все это нищему, который, не входя во двор, присел у ворот наземь и принялся за еду. Ей не надо было вслух спрашивать у мужа разрешения — он обходился кивком или качанием головы, ибо, как нам уже известно, слова были излишни во времена кесарей, когда одного лишь движения большого пальца довольно было, чтобы добить гладиатора или оставить его жить. А нищий, который, без сомнения, не ел уже дня три, ибо нужно проголодаться по-настоящему, чтобы в мгновение ока не только опростать, но и вылизать чашку, уже снова стучался в калитку — вернуть пустую посуду и поблагодарить за милосердие. Мария открыла: нищий стоял прямо перед нею, неожиданно огромный — гораздо выше ростом, чем показалось ей вначале, так что, быть может, и впрямь накормленный досыта человек разительно отличен от голодного, — и лицо его как бы озарилось внутренним светом, глаза засверкали, а невесть откуда налетевший ветер вдруг раздул и взметнул ветхие его лохмотья, и помутившемуся на миг взору тряпье это предстало богатым и пышным нарядом, во что поверить, конечно, дано тому лишь, кто при этом присутствовал. Мария протянула руки, чтобы принять у нищего глиняную чашку, которую причудливейшая игра по-особенному преломившихся солнечных лучей заставила вдруг заблистать чистейшим золотом, а в ту минуту, когда чашка переходила из рук в руки, раздался трубный глас, тоже невесть откуда взявшийся у жалкого попрошайки: Да благословит тебя Бог, жена, да пошлет Он тебе детей, да избавит Он их от доли, что выпала тому, кто стоит пред тобой, чья жизнь исполнена горестей, кому некуда приклонить голову. Мария по-прежнему держала чашку перед собою, словно чашу для подаяния, словно ждала от нищего милостыни, и тот, ничего более не объясняя, нагнулся, взял пригоршню земли и, протянув руку над чашкой, дал земле медленно просыпаться сквозь пальцы, после чего произнес глухо и гулко: Глина — ко глине, прах — ко праху, земля — к земле, все, имеющее начало, обретет и конец, все, что начинается, родится из окончившегося. Мария, смутившись, спросила: Что означают эти слова? А нищий ответил: Жена, во чреве своем носишь ты сына, только эта участь и уготована людям — начинать и кончать, кончать и начинать. Как же ты узнал, что я беременна? Чрево твое еще не растет, но, когда дитя зачато, по-особому блестят глаза матери. Но тогда муж мой должен был бы по глазам моим понять, что я понесла от него. Быть может, взгляды ваши не встречаются. Скажи, кто же ты такой, что знаешь это ни о чем не спрашивая меня? Я ангел, только никому не говори об этом.