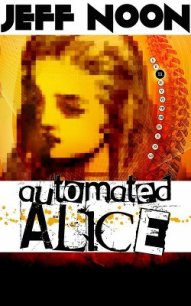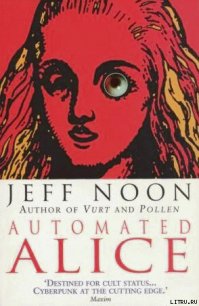Алиса в Стране Советов - Алексеев Юрий Александрович (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Без сомнений, ноты певцу подложили «карлики», подкупившие втихаря оркестр. И, конечно же, зря Буре и Клеинский оказали протекцию триумфаторам, протащили гопников в рококо-зал. Ведь обычно под вечерним с прелестными купидонами небом «Авроры» собиралась и в итальянских зеркалах отражалась штучная, непростая публика. «Карлики» здесь, мягко говоря, смотрелись как собака на заборе. Да и сами они туда на рожон не лезли особенно, потому как на парапете амфитеатра там завсегда помещался за одиночным столиком индифферентный, но вспышками остроглазый, спортивного склада человек-нарзанщик. Человек хохлился над холодной яичницей, налегал исключительно на минералку и с Шуриком-Семиглазкой, когда тот появлялся, никогда не здоровался.
Шурик в «Аврору» был вхож, допускаем. А прочим случайным залётчикам в свитерах и затрапезным командировочным в бурках — здесь был решительный отказ, даже если столы пустовали. Что же касательно милых дам, рвущихся в расхожих туфлях потанцевать дружка с дружкой после работы, попрыгать в очаровательных видах, то их вообще ближе дверной ручки не допускали, вежливо отсылали на «плешку» [5]:
— Ватен отсель, гражданочки! Здесь ваша не пляшет!
Да-с, только в «лодочках» на каблучке, в нежёванном платье и под руку с кавалером, которому надлежало быть непременно при галстуке, собственном куреве и носовом платке. Нет-нет, насчёт курева вы угадали — чтоб по столам не шастал, а платок вовсе не для наведения блеска на башмаках в туалете. Отнюдь! Блеск наводили унтер-швейцары, перед которыми не умели ещё тогда ужом извиваться и по-собачьи в глаза заглядывать. Такого в заводе не было. И демаршировать, с трезва, спьяна ли, обнимушечки с официантами, гнуть, перед ними спину — жаме! кель орор! тьфу… Да и какие на то резоны?! Только изысканные манеры рождают в прислуге подобное же. И строгий, бонтонного кроя клиент, пусть даже спрямлённый радикулитом, был всегда в гарантии, что ему споро, бесшумно подадут фирменный де-воляй «Аврора» на подогретой тарелке, яблочный пай («Националь»), соломушку фрит в мельхиоровой каске («Гранд-отель»), а в укромный притенённый кабинет «Центрального» принесут оживляющий поутру квас на льду с тёртым хреном. Официантов чрезвычайно струнят шарм, элегантность. И когда, скажем, вечерняя дама не скидывает под столом жмучие туфли, а на оголённых плечах её мушка — нет, не муха с кухни, а мушка, господа современники! — пикантная му… Впрочем, пардон, тысячу извинений за ностальгию, госпо… виноват, товарищи! Не пришивайте мне наскоро суровьём статью. Я за демос, братки, за достояние миллионов, кореши, за поступательное движение… но почему обязательно в квашенных уличной солью сапогах и непременно по паркету «Авроры»? Возможно, это и есть кратчайший путь в лучезарное Будущее. Но зачем же с налёту макать лежалую корку в горчицу и требовать:
— Фёдор, водяры!.. Потом, потом дашь зажрать что-нибудь…
«Что-нибудь», «как-нибудь» — совершенно для поступи не годятся, братки! Умоляю и заверяю: квас со льда не может охладить интерес к коммунизму. Это распространимо и на галстук, и на умение распорядиться горчицей, и на всё, что урчит, шкворчит, пенится на кухне у Тимофея и на виду у Данилы.
«Ай, славно, до чего славно! — разнежился Данила, измученный песней «и как один умрём» с попутным призывом чего-то сдать, отдать, подписаться. — Это не передых, не леформа, а подымай выше, если, конешно, не сплю». Пиво несколько подразмыло его робость, и ему страсть как захотелось глазком глянуть на богатых, роскошных людей, заступивших за межу, за грань тутошнего и тамошнего.
Ближе всего к кухне располагался сдвоенный столик «карликов». Им нарочно тёмный угол отдали, зная их стойкость к запахам и шумливость. «Карлик» не элитарен, каких бы высот он ни достиг. Увы, замурлыкай ему «богатым, но здоровым», из него тотчас полезет босяк, щёлкающий цветными подтяжками, и ни один Айвазовский не в силах выветрить из его квартиры запах селёдки с луком, даже если она там и не ночевала.
Данила на полскулы в зал высунулся, но на большее не отважился. Возле стола топтался швейцар с подносом, на коем была вместо пищи бумажка с секретом. Однако пирующие тянулись с бокалами к молодому, прекрасно одетому, но скучавшему как-то отрешённо блондину, выкрикивали «За царь-пушку!» — и посланца не замечали.
— Вам, Иван Лексеич! — выждал затишье швейцар и подал поднос блондину, с которого и Ванятки, по разумению Данилы, хватило бы.
— Что!? Эт-то ещё что такое? — сграбастал бумажку с подноса повелительный, с двойным подбородком дядя и презрительным голосом зачитал: «Я без галстука, а для Вас есть возможность поступить в МГИМО. Жду вас! Доцент Ерёмкин…».
— Ждёт? — переспросил дядя.
— Точно так, — подтвердил швейцар. — В гардеропе.
Блондин усмехнулся, а дядя побагровел и посмотрел вопросительно на седовласого барина в золотых очках.
— Зачем же ты посторонних впускаешь, Базилио? — претенциозно приподнял очки Буре.
— Здесь всё-таки не «Верёвка»… [6]
— В шею? — деловито осведомился «Базилио».
— Ах, как ты неделикатен! — вмешался неискренним голосом весёлый живчик приятной наружности — это Клеинский был. — Ах-ах! — и угнездил на поднос шипучий бокал: — Скажи «неприёмный день» и предложи посошок для декора.
— Вас понял, Семён Ильич! — осклабился Василий. — Оформим!
И пошёл декор оформлять.
Буре и Клеинский совершенно Данилу пленили. Всё решительно: и то, как они неспеша расправлялись с неописуемой нежно-розовой рыбой, и как умственно, сложив губы трубочкой, потягивали с ленцой крепчатину из мизерных рюмочек, и как без жмотства накладывали они в тарелки всячину красивым, плотным, готовым хоть каждый год полновесков рожать женщинам, — всё решительно склоняло Данилу к уже раскочегаренной мысли: «Свершилось! Москва достигла, а дальше оно и в деревню пойдёт, достигнет самых запятошных».
И запьяневшему натощак Даниле стало вдруг мучительно стыдно, что он, безбилетник, к тому же и недостаточно порадел общему делу, чтобы приблизить это жданное и заветное: дважды не выходил на работу (хотя бригадир Арсений и стучал ему палкой в окно), а весной сорок седьмого накопал ночью на картофельном поле полведра зародышей… Покаяться, поделиться этой страшной тайной — вот что удумал голову потерявший Данила и, как был в мешке, вывалился из простенка к столу, приближённому к кухне…
Не заточилось ещё перо, способное описать изумление «карликов» и сметение рококо-зала. Но если бы, отдадим должное, ресторан заполняла только штучная, типа Клеинского и Буре публика, ничего бы особенного не приключилось. Штучные бы вида не подали, вилкой не дрогнули, а подвижные не хуже тореадоров официанты «Авроры» тотчас накрыли бы шатуна Данилу какой-нибудь крахмальной мулетой и удалили неприметно с арены — алле ап! Но повылезавшие из чёрных низов «карлики» были не таковы, чтобы приключение упустить. Двойной подбородок тотчас согнал с места какого-то прихлебателя и усадил Данилу рядом с собой капризно и грубо, будто любимую куклу детства. Оркестр подавился и смолк. Буре уронил очки в оливье. За соседними столами послышались «шу-шу-шу», однако не заглушившие «ик-ик-ик» Клеинского, задергавшегося, как автомат «винчестер» на утиной охоте. Однако двойной подбородок не растерялся. Перво-наперво он показал оркестру правую пятерню, а левой присоединил к ней убедительный ноль. Хрипатый певец ожил и спохватчиво под воспрянувший в айн момент оркестр продолжил:
Под развесёлую музыку Данилу угостили колючим «Абрау Дюрсо», после чего его будто током вдарило, и он смутно, с обрывами, как в клубном кино, соображал, что вокруг происходит: чего-то склизкое ел, потом холодное, сладкое, а стол шумел, качался, и какой-то суетной голос жадничал: «Не давайте! Я вам как врач говорю…».
5
Всеизвестная панель в изножье «Метрополя».
6
Подземный ресторанчик «Иртыш» с витой лестницей, ведущей вниз к незабываемым сибирским пельменям. Теперь здесь «Детский мир" (прим. автора).