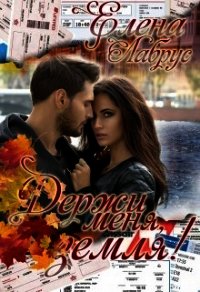Бог Мелочей - Рой Арундати (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
И вот теперь, двадцать три года спустя, их отец Отправил сына Назад. Он послал Эсту в Айеменем с чемоданом и письмом. Чемодан был полон модной одежды с иголочки. Письмо Крошка-кочамма дала Рахели прочесть. Оно было написано женским наклонным почерком, вызывавшим в памяти монастырскую школу, но подпись в самом низу была отцовская. Фамилия по крайней мере. Рахель ведь не знала подписи отца. Письмо гласило, что он, их отец, уволился с прежней работы и собирается эмигрировать в Австралию, где ему предложили должность начальника охраны на керамической фабрике; взять с собой Эсту он не может. Он шлет всем в Айеменем наилучшие пожелания и обещает, что заедет повидаться с Эстой, если когда-либо вернется в Индию, что, по правде говоря, маловероятно.
Крошка-кочамма сказала Рахели, что она может взять письмо себе, если хочет. Рахель положила его обратно в конверт. Бумага сделалась дряблой и похожей на ткань.
Она успела позабыть, каким влажным бывает воздух в Айеменеме во время муссонов. Набухшая мебель трещала. Закрытые окна распахивались со стуком. Книжные страницы становились мягкими и волнистыми. Вечерами, как внезапные догадки, влетали странные насекомые и сгорали на тусклых сорокаваттных лампочках Крошки-кочаммы. Утром их ломкие обугленные трупики валялись на полу и подоконниках, и пока Кочу Мария не заметала их в пластмассовый совок и не выбрасывала, в воздухе пахло Паленым.
Они, эти Июньские Дожди, остались какими были.
Обрушиваясь с разверзшихся небес, вода насильно возвращала к жизни брюзгливый старый колодец, расцвечивала мшистой зеленью заброшенный свинарник, бомбардировала застойные, чайного цвета лужи, как память бомбардирует застойные, чайного цвета рассудки. Трава была сочно-зеленая и довольная на вид. В жидкой грязи блаженствовали багровые земляные черви. Крапива кивала. Деревья клонили кроны.
А там, поодаль, на берегу реки, среди ветра, дождя и дневной шквалистой тьмы, расхаживал Эста. На нем была футболка цвета давленой клубники, теперь мокрая и потемневшая, и он знал, что Рахель вернулась.
Эста всегда был тихим мальчиком, поэтому никто не мог сказать хоть с какой-то степенью точности, когда (даже в каком году, не говоря уже о месяце и дне) он перестал говорить. То есть совсем умолк. В том-то и дело, что не было такого момента. Он не сразу прикрыл лавочку, а сворачивал дело постепенно. Еле заметно убавлял звук. Словно он истощил запас общения и теперь говорить стало вовсе не о чем. Однако молчание Эсты было лишено всякой неловкости. Оно не было вызывающим. Не было громким. Не обвиняющее, не протестующее молчание – нет, скорее оцепенение, спячка, психологический эквивалент состояния, в которое впадают двоякодышащие рыбы, чтобы пережить сухую пору, только вот для Эсты сухая пора, казалось, будет длиться бесконечно.
Со временем он развил в себе способность, где бы он ни находился, сливаться с фоном – с книжными полками, деревьями, занавесками, дверными проемами, стенами домов – и стал казаться неодушевленным, сделался почти невидим для поверхностного взгляда. Чужие люди, находясь с ним в одной комнате, обычно не сразу его замечали. Еще больше времени им требовалось, чтобы понять, что он не говорит. До иных это так и не доходило.
Эcта занимал в мире очень немного места.
После похорон Софи-моль, когда Эcту Отправили, их отец отдал его в школу для мальчиков в Калькутте. Он не был отличником, но не был и отстающим, по всем предметам более или менее успевал. «Удовлетворительно», «Работает на среднем уровне» – таковы были обычные отзывы учителей в ежегодных характеристиках. Постоянной жалобой было: «Не участвует в классных мероприятиях». Хотя что это за классные мероприятия, никогда не объяснялось.
Окончив школу с посредственными оценками, Эcта отказался поступать в колледж. Вместо этого он, к немалому изумлению отца и мачехи, принялся делать домашнюю работу. Словно хотел таким способом возместить затраты на свое содержание. Он подметал и мыл полы, взял на себя всю стирку. Он научился готовить, стал ходить на базар за продуктами. Торговцы, сидевшие за своими пирамидами из лоснящихся маслянистых овощей, узнавали его и обслуживали без очереди, несмотря на ругань других покупателей. Они давали ему ржавые жестянки из-под кинопленки, чтобы складывать отобранные овощи. Он никогда не торговался. Они никогда его не обманывали. Когда овощи были взвешены и оплачены, торговцы перекладывали их в его красную пластмассовую корзину (лук на дно, баклажаны и помидоры – наверх) и всегда давали ему бесплатно пучок кинзы и несколько стручков жгучего перца. Эcта вез покупки домой в переполненном трамвае. Пузырек тишины в океане шума.
Когда сидели за столом и ему хотелось чего-нибудь, он вставал и накладывал себе сам.
Возникнув в Эсте, молчание копилось и ширилось в нем. Оно тянуло свои текучие руки из его головы и обволакивало все тело. Оно качало его в древнем, эмбриональном ритме сердцебиения. Оно потихоньку распространяло внутри его черепа свои осторожные ветвистые щупальца, ликвидируя, словно пылесосом, неровности памяти, изгоняя старые фразы, похищая их с кончика языка. Оно лишало его мысли словесной одежды, оставляя их нагими и оцепеневшими. Непроизносимыми. Немыми. Для внешнего наблюдателя едва ли вообще существующими. Медленно, год за годом Эcта отдалялся от мира. Ему стал привычен этот осьминог, бесцеремонно обосновавшийся в нем и прыскавший на его прошлое транквилизатором чернильного цвета. Мало-помалу первопричина немоты стала ему недоступна, погребенная где-то среди глубоких, спокойных складок молчания как такового.
Когда Кхубчанд, его любимый, слепой, плешивый, писающийся беспородный пес семнадцати лет от роду, решил не откладывать дальше свою горемычную кончину, Эcта так ухаживал за ним на последнем, мучительном отрезке пути, словно дело шло о его собственной жизни. В предсмертные месяцы Кхубчанд, чьим наилучшим намерениям мешал осуществиться крайне ненадежный мочевой пузырь, из последних сил волочился к собачьей калитке, висевшей на петлях в нижней части двери, что вела на задний двор; толкнув калитку носом, он просовывал наружу только голову и мочился в доме неровной, петляющей ярко-желтой струей. После чего с пустым мочевым пузырем и чистой совестью пес бросал на Эcту взгляд своих тускло-зеленых глаз, стоявших как тинистые пруды посреди седой старческой поросли, и ковылял обратно к сырой подстилке, оставляя на полу мокрые следы. Когда умирающий Кхубчанд лежал на своей подстилке, Эcта мог видеть окно спальни, отраженное в его гладких багровых глазных яблоках. И небо за окном. А однажды – пролетающую мимо птицу. Чудом показался Эсте, погруженному в запах старых роз, напитанному памятью о переломанном человеке, тот факт, что нечто столь хрупкое, столь невыносимо нежное смогло сохраниться, имело право на существование. Птица в полете, отраженная в глазах умирающей собаки. Мысль заставила его громко рассмеяться.
Когда Кхубчанд умер, Эcта принялся расхаживать. Он расхаживал без отдыха часами. Поначалу поблизости от дома, но с каждым разом удаляясь все больше и больше.
Люди привыкли видеть его на улицах. Чисто одетый мужчина со спокойной походкой. Его лицо потемнело и обветрилось. Загрубело от солнца. На нем появились морщинки. Эcта начал выглядеть более умудренным, чем был на самом деле. Как забредший в город рыбак. Человек, которому ведомы морские тайны.
Теперь, когда его Отправили Назад, Эcта расхаживал по Айеменему.
Иногда он бродил по берегам реки, которая пахла фекалиями и купленными на займы от Всемирного банка пестицидами. Почти вся рыба в ней погибла. Уцелевшие экземпляры страдали от плавниковой гнили и были покрыты волдырями.
В другие дни он шел по улице. Мимо новеньких, только что выпеченных, глазированных домиков, построенных на нефтяные деньги медсестрами, каменщиками, электриками и банковскими служащими, которые тяжко и несчастливо трудились в странах Персидского залива. Мимо обиженных старых строений, позеленевших от зависти, укрывшихся в конце своих частных подъездных дорожек под своими частными каучуковыми деревьями. Каждое – пришедшая в упадок феодальная вотчина со своей историей.