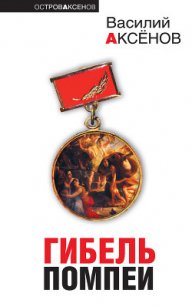Негатив положительного героя - Аксенов Василий Павлович (книги хорошего качества .TXT) 📗
Вдруг она оказалась на крыльце, казалось, развороченном землетрясением. Из двери со скрипом вытаскивали детскую коляску. Жилой дом. Палмер прошла внутрь. Пещера вестибюля, пропахшего кошачьей свободой. Поверх разбитого, вставшего коробом, кафеля лежат доски. Будто пенсильванская шахта зияет вход в длинный коридор. В этих трущобах, конечно, живут нуждающиеся. Вот сюда, в дверь под номером 7-а, и будет доставлен первый рождественский подарок из Страсбурга.
«Не открывай, не открывай, паразит!» – завопили внутри. Дверь открылась. Палмер показалось, что она попала в знакомое по кино нью-йоркское гетто. Произошло это прежде всего от того, что деклассе Чувакин от многолетнего потребления бормотухи если уж не почернел, то основательно посизовел. Женка же чувахинская, Смарагда или как ее там, была из литовских караимов, так что вполне могла сойти за пуэрториканку.
Палмер хотела нормально по-русски поздороваться, но от волнения произнесла нечто несуразное: «Здравевичи!» Перепугавшись, стала тыкать пакет, как бы умоляя, чтобы не подозревали в дурных намерениях. Тут она заметила, что супруги босы и ротовые полости у них не в полном порядке. Едва не разрыдалась: «Бедные, бедные!»
«Тэйк ит, – бормотала она. – Инджой! Мэрри Кристмас!»
«Ну и мымра, – зевнула Смарагда. – Во, кадр! Ребенка, бля, хочет подбросить!»
«Ни хера ты не понимаешь, Смарагда гребаная, – весь от ушей до пяток прочесался Чувакин. – Это ж шведка, они все такие страшные. Пойду к художнику ее сведу, он по-ихнему сечет, я сам слышал».
«Опять напьешься у художника! – завопила жена. – Домой не приходи, козел! Чтоб вас всех, козлов, на этом свете шахной накрыло!»
Чувакин с дипломатическим изгибом показывал путь. Лезли по лестницам. Дом когда-то был богат, подумала Палмер. Кое-где еще виднелись мраморы, витой чугунок, осколки мозаики. «Мир Искусства», – вспомнила она лекцию вандербилдского профессора Костановича. Залезли под самую крышу. Здесь, должно быть, гнездятся самые нуждающиеся. Этот самоотверженный босой человек подумал не о себе, а о других. Вот таковы глубины этих характеров. Из-за оцинкованной двери на верхней площадке вдруг донеслись совсем неплохие запахи. Похоже на домашнюю готовку в День Благодарения.
Когда «англичанку» провели внутрь, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн уже начинали накрывать на стол в дальнем углу пещероподобной мастерской. Как две мортиры, торчали к кафедральным сводам ножки венгерской индейки. Благоухал первый противень пирога с вязигой. Над краями хрустальной чаши поднималась мягкая горка зернистой икры. Этот последний продукт был известен Палмер только по художественной литературе и в своем реальном воплощении так, кажется, и остался ею до самого конца рассказа неопознан.
Дамы с удовольствием продолжали вокруг стола свою созидательную работу. Обе они были, между прочим, большими московскими знаменитостями, останкинскими миражами, а также «лапочками» всего торгового и блатного плебса. Для них не составляло никакой проблемы, «работая лицом», пройти через любую толпу в кабинет директора гастронома и добыть любой дефицит. И вот – везет же Модесту! – обе выдающиеся знаменитости разных поколений почему-то полагали своим долгом следить за тем, чтобы дом художника был «полной чашей». И это несмотря на то, что чаша сия постоянно и похабно опустошалась богемным сбродом, собиравшимся по ночам на этом чердаке, откуда видна была кучерская голова и спина основоположника марксизма Маркса, а также, если впериться в пьяные мраки, и квадрига Большого театра.
Модест Орлович знал одно полновесное английское предложение-вопрос: «Вэа ар ю фром?» – то есть «Вы откуда?», и, кроме того, немало еще отдельных слов, в основном существительных. Этот запас помогал ему объясняться с иностранцами в стиле «беспроволочного языка», изобретенного еще итальянским футуристом Маринетти, то есть без глаголов. «Пэйнтер, – обычно представлялся он, похлопывая себя ладонью по груди. – Грэйт пэйнтер. Май хаус, – следовал циркулярный жест, очерчивающий мастерскую. – Гэст гуд. Фрост, а? Раша, Уинтер. Вэа ар ю фром?»
Палмер между тем, с восторгом глядя на высокого и тощего художника – ну, просто воплощение князя Мышкина! – восклицала на своем вирджинском, добавляя иногда слипшиеся, как засахаренный попкорн, русские слова. Вот что приблизительно получалось. «Я из Страсбурга, Вирджиния. У нас тоже бывает зимея. Нет-нет, я не боюсь русски мэрроуз. Я так счастлива, огромное спасибо! Значит, вы маляр, сэр, а этот ваш друг, босой джентльмен, очевидно, водопроводчик, не так ли? Это просто чудесно! Спасибо за костеприемствоу!»
Орлович немедленно и бодро ответствовал: «Гуд. Фуд. Водка. Бир. Фак. Тэйбл. Чэар. Глас. Плэйт. Пэйнтинг. Грэйт. Вуаля!»
Чувакин даже пасть раскрыл от восхищения. При нем развивался почти понятный разговор на непонятном языке. «Про ребеночка спроси, Модест!»
Орлович двумя ладонями и подбородком вопросил про синий сверток: «Чайлд? Чайлд? Мазер? Фазер?»
Палмер не успела ответить. Оцинкованная дверь распахнулась, чтобы больше уже в этот вечер не закрываться. Ввалилась толпа каких-то румяных и пьяных. Поражала взволнованная искаженность лиц и изысканность одежд. В кучу сваливались дизайнеровские пальто с пелеринами, разматывались многоцветные шарфы. Целая команда голенастых девок. Жирноватые сицилианцы. Большой русский молодец, под косматым жилетом голая грудь с крестом. Все говорили разом, никто не слушал друг друга.
«Где мне положить этот пакет с гуманитарной помощью?» – спросила оробевшая Палмер. Ей никто не ответил. Рапсодия поцелуев. Мужчины всасывали друг у друга часть плохо бритых щек. Женщины все прижимались к хозяину лобками, что, очевидно, заменяло у них рукопожатие. Кажется, они все уже пьяны, а на столе еще бутылок, что кеглей в кегельбане.
«Да вы все уже бухие, банда!» – счастливый, кричал Модест.
«А ты догоняй, генюша наш гениальный!» – Русский красавец, схватив хозяина за бородку, совал ему в рот бутыль шампанского.
Разлетались брызги с пеной. Одна увесистая капля попала Палмер прямо в лоб. Голова закружилась, и взгляд вместе с ней описал дикую окружность по сводам огромного чердака. Только тут до Палмер дошло, что стены пылают живописью и мерцают глубинным золотом икон. Птица-Гамаюн легонько вытряхнула ее из прошитого на пуху пальтеца, обняла за талию: «Клади ребеночка вот здесь, под образами, и к столу, к столу!» Красный рот проиллюстрировал приглашение международно-доходчивым «ням-ням». «Да ты вся посинела, мамочка! – Муза Борисовна поставила перед Палмер миску горячего жира. – Разбульонься, дорогая!» Янтарное пятно холестерина покрывало поверхность. Только стакана русской водки не хватало для самоубийства, и вот он появился.
«Давай на брудершафт, сельская учительница!» – проорал в ухо русский красавец Аркашка Грубианов. Он сидел на ручке ее кресла, а когда, после водки, полез по русскому обычаю целоваться, свалился мощным бедром между двумя стройными конечностями самаритянки, ненароком нажимая ладонью на ея промежность.
Она трепетала тонкими губками под мокрыми сардельками Аркашки. Он не виноват, это традиция, вот такая истинная народность, рашенес, а этот мужчина не виноват, не надо придираться. Какая страсть, какая свежесть чувств, хоть от него и несет чем-то тошнотворным.
Грубианов совал ей в рот столовую ложку икры. Да жри, жри наше достояние, последний кавиар подыхающей России! Не можешь проглотить? Ребята, она в рот берет, а проглотить не может. Муза Борисовна мхатовским жестом пресекла грубиановское свинство: «Оставь свое свинство, друг Аркадий!» Тут кто-то над столом божественно заиграл на скрипке Eine Kleine Nacht Musik [3]. Толпа европейского и русского мужичья в богатых костюмах встала за дальним концом стола, выпивая какой-то свой сепаратный тост совместного предприятия. Аркашка, уже забыв о Палмер, брал за грудь головастого критика: «Ты плохо всасываешь по русской идее! Ты Розанова еще не всосал!»
[3] Серенада В.А.Моцарта «Маленькая ночная музыка» (нем.). (Прим, ред.)