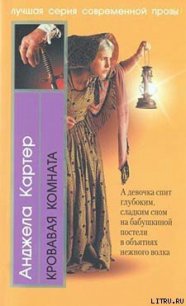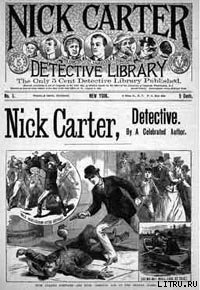Адские машины желания доктора Хоффмана - Картер Анджела (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
— Они — символические компоненты образов базисных составляющих вселенной. Если их расположить должным образом, можно изобразить все возможные ситуации и их всевозможные изменения.
— Вроде компьютерного банка Министра?
— Ничего подобного, — огрызнулся он. — Правильно используя эти шаблоны, можно свести на нет саму реальность Министра Определенности. Ирония судьбы: ваш Министр стремится к тому самому окончательному синтезу, который мой бывший ученик давным-давно проделал. Но после этого Доктор преступил его пределы.
Он протянул в мою сторону букет свирепых образов желания. Они, как показалось, чуть не выпрыгнули у него из руки, такова была их синтетическая энергия.
— Символы служат своего рода выкройками или лекалами, следуя которым могут быть развернуты физические объекты и реальные события, — этот процесс Доктор называет «эффективным развертыванием». Я разгуливаю по свету, словно Дед Мороз с мешком подарков, и никто не догадывается, что мешок этот набит изменениями.
Я подлил себе кофе, поскольку мне нужно было оставаться начеку. В конце концов, когда-то он был рационалистом, даже если и превратился сейчас в шарлатана.
— Я совсем запутался, — сказал я. — Хотя бы намекните на его методологию.
— Первое начало феноменальной динамики, — заявил он. — Вселенная не обладает никаким неизменным субстратом, нет в ней и неизменных субстанций, вся ее реальность кроется единственно в ее феноменах.
— Да, — сказал я. — Это понятно.
— Второе начало феноменальной динамики: только изменение неизменно.
Для меня это звучало скорее как афоризм, а не как гипотеза, но я промолчал.
— Третье начало феноменальной динамики: разница между символом и объектом количественна, а не качественна.
Тут он вздохнул и смолк. Сквозь прореху в парусиновой стене я увидел, что, хотя внутри балагана еще царила ночь, снаружи неловко занималась заря, и тут же заснул.
Теперь я скрывался и от полиции — поскольку мое изображение с надписью РАЗЫСКИВАЕТСЯ было вывешено на стене городской полицейской управы, — и от речного народа. Я выдавал себя за заблудшего племянника хозяина механического порно-шоу. Моя новая личность была безукоризненно подлинна, вплоть до мельчайших деталей. Волосы и усы я подстриг на другой манер и, отбросив индейскую одежду, облачился во что-то темное и мрачное, как нельзя лучше подходящее моей новой личности. Я догадывался, что в реестрах Министра числюсь среди мертвых — одна из многих военных потерь, — вот почему д-р Хоффман тратил на меня столько сил; ну а мне только и надо было, что отсиживаться в тени палатки, протирать линзы машин, смотреть, как мой хозяин каждый день располагает в нужном порядке свежие волнительные сцены, и слушать разнообразные рассказы о занятиях его бывшего ученика, которыми он потчевал меня по вечерам, когда, закончив дневные труды, мы усаживались рядом с керосинкой.
Я не был тогда достаточно компетентным, чтобы комментировать или трактовать что-либо из полученной мною информации, как некомпетентен в этом и сейчас, хотя и увидел сами лаборатории, генераторы — и даже самого непостижимого Доктора, работающего среди них с величественным, но и внушающим страх спокойствием демиурга. Но из заметок, сделанных мною в то время, я извлек следующие неправдоподобные намеки на интеллектуальные принципы, служившие фундаментом всей деятельности Доктора.
Главные его принципы фактически сводились к следующему: все, что возможно себе представить, может к тому же и существовать. Эту изначальную гипотезу поддерживала обширнейшая энциклопедия мифологических отсылок — шаманы Океании, которые пением придавали грубым деревянным колодам форму лодок, не прибегая, естественно, к помощи топоров; средневековые ирландские поэты, чьи губительные оды, словно кипятком, обжигали неприятелей их короля; и так далее, и тому подобное. Уже на самой ранней стадии своих штудий Хоффман вышел далеко за пределы царства чистой науки и воскресил к новой жизни всевозможные разновидности древних псевдонаук: алхимию, геомантию и особенно эмпирические изыскания касательно тех сущностей, которые, согласно древним китайцам, порождали через взаимодействие изначальных природных аспектов мужского и женского все явления. А еще имелось и понятие страсти. В кармане своего темного костюма я обнаружил клочок бумаги со следующей цитатой из де Сада, написанной невообразимо изысканным женским почерком; хотя послание никому не адресовалось и не было подписано, я знал, что оно предназначалось мне и пришло от Альбертины.
«Мои страсти, сосредоточенные на единственной точке, напоминают солнечные лучи, собранные воедино увеличительным стеклом; они незамедлительно воспламеняют любой предмет, который окажется на их пути».
Я, однако, не видел в этих словах никакого относящегося именно ко мне значения и в конце концов решил, что приложимы они, должно быть, к самой машинерии кинетоскопа, поскольку начинал уже думать, что и в самом деле, манипулируя непостижимыми этими шаблонами, можно переструктурировать систему событий, ведь окольным поэтическим манером они явно помогли сорганизовать мою злополучную ночь в доме мэра.
Но я с легкой завистью восхищался красноречием и де Сада, и девушки, процитировавшей его мне, поскольку знал, что, несмотря на весь свой романтизм, сам не был наделен пылкими страстями. Если бы я заново прожил жизнь в одной только смутной надежде вновь увидеть однажды Альбертину, то и тогда не могу себе представить, как этому желанию удалось бы пробудить во мне достаточно пылкости, чтобы своим собственным накалом я высветил ее местонахождение, не говоря уже об использовании того, что мой инструктор по гиперфизике описывал как «лучистую энергию», испускаемую желанием, чтобы проложить ей путь. Слепой старик, играющий с безделушками на ярмарочной площади, заблудившийся в запутанной сети воспоминаний о том, чего не видел… да, слепого вел слепец, ибо и сам он никогда не мог стать человеком, сгорающим от страсти! Поэтому, когда он говорил мне об Альбертине, словно она была превратившимся во плоть играющим пламенем, слова его отдавали причудливой лживостью, хотя я не мог забыть своих снов о навязчивом скелете и невольно спрашивал себя, не приходила ли она в снах и к нему, ибо видеть он мог только во сне.
С ярмарочным народцем его связывали узы необременительной привязанности, и отныне старик, карнавал и я путешествовали вместе. Как выяснилось, в предвкушении моего возвращения содержатель порно-шоу взял внаем у армянина, заправлявшего колесом фортуны, вышедший из строя грузовик. Это и был его новенький подержанный грузовичок, и я вел его, когда мы перебирались с нашими новыми товарищами с места на место, влившись в буйную кавалькаду, стремившуюся по зимним дорогам во все новые и новые города. На дороге я был столь же недостижим для индейцев, как ранее, когда жил с ними на реке, для полиции. Я был недостижим для всего, словно присутствовал в оперном театре на «Свадьбе Фигаро», поскольку дорога оказалась еще одной разновидностью самодостаточной, замкнутой на себя реки.
Странствующая ярмарка являла собой особый мир, не признающий никаких географических или временных привязок, ибо где бы мы ни останавливались, все оказывалось точно таким же, как и в прошлый раз, стоило только разбить палатки и наладить аттракционы. Мексиканские комедианты; бесстрашные наездницы из Небраски, Канзаса или Огайо, чьи бесконечные ноги и затертые черты лица влачили на себе ярлык «made in USA»; японские карлики, боровшиеся друг с другом на аренах, покрытых толстым слоем грязи; норвежские мотоциклисты, с ревом проносящиеся по вертикали вокруг переносной стены смерти; танцевальный ансамбль альбиносов, чьи анемичные гавоты напоминали танцы светозарных бессмертных; бородатая дама и человек-аллигатор — таковы были отныне мои соседи, которые делили друг с другом только печальное очарование собственного отличия от окружающего их мира повседневности и, защищаясь, держались друг друга, чтобы сохранить и продлить эту свою мрачную избранность. Уроженцы ярмарки, они не признавали никакой другой национальности и не могли вообразить себе иного дома. Многоязыкое столпотворение укомплектовало аттракционы, ружейные тиры и кегельбаны с кокосовыми орехами вместо шаров, пикирующие бомбардировщики, русские горы и карусели, на которых иератически застывшие, словно шахматные кони, разрисованные лошадки описывали вечные круги, невосприимчивые, как орбиты планет, к заунывно однообразному миру здесь и теперь, населенному теми, кто приходил на нас поглазеть. И если мы переступили границы будничной банальности и общих мест, точно так же возвысились мы и над языком. У нас почти не было общих языков, и мы по большей части использовали язык хрюканья, лая и жеста, каковой, возможно, и является общей, универсальной языковой матрицей. И так как нам редко требовалось сообщить друг другу что-либо более сложное, чем жалобы, до чего грязны дороги, мы вполне этим обходились.