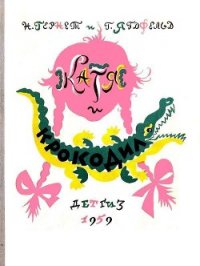Город не принимает - Пицык Катя (лучшие книги читать онлайн .TXT, .FB2) 📗
Через пятнадцать лет я забила ее имя в поисковую строку. Татьяна Борисовна оказалась автором многочисленных трудов, посвященных (неожиданно) каким-то узкоспециальным проблемам пушкиноведения. Она, как и прежде, читала лекции сразу в нескольких университетах. Но ни в одном из разделов «Наши преподаватели» не было ее фотографии. Вернее, именно ее фотографий не было. Только ее. Чтобы хоть чем-то унять тоску по Татьяне Борисовне, я решила перечитать «Фиесту». Отторжение началось со сцены в такси, по дороге в кафе «Селект»: все эти «могу», «не могу», «не трогай меня», «милый» и тому подобное. Особенно напрягало «люблю». В предисловии говорилось: «Настойчиво звучит в романе щемящая нота любви двух изломанных войной людей, для которых полное счастье уже невозможно». Спустя пятнадцать лет эта «невозможность» предельно обмелела. Счастье невозможно для тех, кто не любит друг друга. Для всех остальных дороги открыты. Импотенция слишком уж мелкая проблема – повод, надуманный для того, чтоб с садистской медлительностью изничтожать любовь. «Счастье уже невозможно»! Невозможность поместить половой член внутрь влагалища, представленная в качестве препятствия для близости, неимоверно бесила. По меньшей мере, это было неуважительно по отношению к людям, разлученным смертью или неволей. По большей – просто невежественно. Пожалуй, только малолеткам можно впарить импотенцию под видом крупной любовной драмы. Я бросила книгу под кровать. Решила не тратить время.
Но «Фиеста» не давала покоя. В чем же дело? В многочисленных биографических справках мелькнула Дафф Твисден. «Скандальная личность», «дочь аристократки и лавочника», «британская шпионка». Вот откуда выросли ноги «бесившейся с жиру нимфоманки». Любовный треугольник, фингал под глазом. В Памплоне Твисден переспала со всеми, кроме Хемингуэя. Потому что последний не изменял жене. Получалось, что образ импотенции вырос из верности. Препятствием для близости на самом деле был брак. Ну, в это еще можно поверить. Однако при чем тут любовь? Бесконечные биографии и рецензии пестрили ссылками на «потерянное поколение». Но ясности это не добавляло. И вдруг (наконец-то!) до меня дошло, что «Фиеста» была написана в 1926 году. Автор блистательной прозы, участник войны написал свою книгу в двадцать семь лет!
Наверное, война ускоряла взросление. Война, словно пушечное ядро, проходила сквозь ткань времени, сквозь время жизни. Но ускорение придавалось только отношениям человека со смертью. Половое созревание тем временем протекало в естественном темпе. То есть ядро войны, проходя через жизнь, разрывало природу самого человека, разрывало живое мясо, отделяя способность любить от способности умирать. Так возникал парадокс, из которого родилось странное, загадочное произведение – гениальный, чрезвычайно взрослый текст, описывавший смешную, чрезвычайно детскую проблему. Собственно, Джейк был прав, говоря по дороге в кафе «Селект», что это смешно. Да, это смешно. И, кроме того, уничижительно по отношению к сексу. Смысл секса определяется все-таки качеством ощущения между кожей и кожей, а не координатами мест на ней. В конечном счете секс – это все-таки поцелуй. Регина была права. Мы напрасно смеялись – мы и предположить тогда не могли, что оргазм как таковой спустя каких-то пятнадцать лет станет одним из самых легкодоступных и незатейливых удовольствий (если не самым), а вот с поцелуем (уж у тебя-то, Джейк, он был!) все окажется куда сложнее.
Глава VII
Философию читали в поточных аудиториях. На лекциях присутствовал весь факультет – актеры, хореографы, сценаристы. Спускаясь по лестнице к кафедре, профессор Дмитрий Валентинович Тимаков оглядывал студентов. Сотни полторы человек! Но он успевал получить примерное представление о том, что его занимало, а именно: в каком составе представлена наша группа. Взойдя на трибуну, Тимаков бегло приветствовал зал и обращался со стандартной просьбой.
– Мои друзья искусствоведы, – говорил он.
Это означало, что нам надо встать: показаться из общего фона. Мы послушно поднимались, по аудитории прокатывалась волна шума, бились сиденья откидных стульев, кто-то покашливал, кто-то оправлял юбку, у кого-то падала сумка, слышался звук покатившейся по полу шариковой ручки. Тимаков прищуривался и, тыкая в воздух карандашом, считал вставших. С этой принужденной процедуры для нас начинался и Платон, и Декарт. В дополнение к осмотру профессор требовал от нашей старосты список присутствующих искусствоведов. На перемене Тимаков обстоятельно читал столбик фамилий, сверяя его с внешними впечатлениями. Староста стояла у кафедры, теребя подол.
– Терещенко был? – спрашивал преподаватель, скептически прицениваясь к списку.
– Да.
– Н-да? А где же он сидел?
Староста заливалась краской. (В конце концов прогульщики перестали просить ее о прикрытии: все поняли – Тимакова нельзя ввести в заблуждение.)
Избирательности в подходе к учащимся философ ни капли не стеснялся.
– Во-первых, танцоры устают, – пояснял он со вздохом. – Банальное недосыпание может кончиться для них остановкой сердца. Во-вторых, можно совершенствоваться в балете и при этом иметь весьма поверхностную гуманитарную базу. А вот для того, чтобы посмотреть балет и определить его место в мировой художественной культуре, необходимо учиться.
Тимаков разрешал брать на экзамен конспекты. Но о послаблении речи не шло. Фокус состоял в том, что за неделю до экзамена Дмитрий Валентинович собирал конспекты и проставлял на каждой странице роспись – знак подлинности рукописного текста, подтверждение того, что он появился на странице в процессе лекции. По первости мы пытались хитрить – безбожно прогуливали философию, но оставляли в тетрадях пустые страницы, чтоб ближе к экзамену взять у отличников конспекты и списать на белые места пропущенные темы. Очень скоро выяснилось, что и это недомошенничество абсолютно бесполезно. Лекции, списанные задним числом, Тимаков отличал по почерку. И безжалостно выдирал страницы.
Прием экзамена Дмитрий Валентинович начинал с пролистывания используемых студентом тетрадей – выискивал вклейки, тексты на полях, вписки между строк. Тимаков никогда не нервничал. Не принимал оправданий. Не давал никаких комментариев своим действиям: поймав студента на жульничестве, он просто откладывал конспект на край стола и переставал замечать человека. Переставал видеть. Не делал вид, что не видит. А именно избирательно слеп. Это означало: «Можете идти. До встречи на пересдаче».
Все перечисленные затруднения меркли в сравнении с главным – самим моментом экзаменационного ответа. Даже имея при себе чистокровный, трудоемкий конспект, даже вконец изнурившись библиотеками и бессонными ночами, студент не мог быть уверен в успехе. Тимаков был непредсказуем. Он никогда не давал манипулировать собой. Его нельзя было очаровать или заболтать. Поразительным образом ему удавалось устанавливать прямой контакт с интеллектом студента, минуя то впечатление, которое студент всеми силами пытался произвести. При этом в Дмитрии Валентиновиче не было ничего демонического. Седина. Легкая небритость. Без галстука. Ворот рубашки расстегнут. Философ никогда не повышал голос, слушал весьма отстраненно – вглядываясь в отсутствующую даль. У новичка могло создаться впечатление, что Тимакову в принципе плевать на то, что там болтает эта дубоватая молодежь. Но в самый неожиданный момент профессор мог прервать отвечающего каким-нибудь предельно простым вопросом. И почему-то в девяти из десяти случаев вопрос сбивал человека с ног, как известие о смерти.
Женечка боялась Тимакова до озноба. На летней сессии первого курса мне довелось экзаменоваться в одной с нею пятерке. Я видела, как Женечка прошла к учительскому столу и, расправив юбку, села отвечать. Румянец горел на голубоватобелом лице. От сердцебиения пол ходил ходуном.
– Первый вопрос, – сказала она хрипло. – Учение о субстанции в философии Лейбница.
Я поняла, что у нее пересохло во рту.
– Слушаю, – пригласил Тимаков и, как обычно, уставился в дальнюю стену.