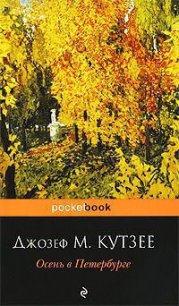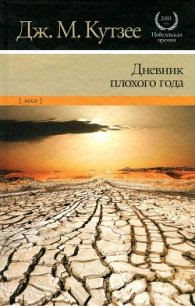Осень в Петербурге - Кутзее Джон Максвелл (бесплатные серии книг .txt) 📗
Помнится, Альберт показал ему двух совокуплявшихся мух, самца на спинке самки. Альберт держал их в сложенной чашкой ладони. «Смотри», — сказал Альберт и, захватив пальцами одно из крылышек самца, слегка потянул. Крылышко оторвалось. Муха этого даже не заметила. Он оторвал и второе крыло. Самец со странной на вид, какой-то лысой спиной продолжал свое занятие. И Альберт с искаженным отвращением лицом швырнул мух на пол и раздавил.
Он способен представить себя глядящим в глаза мушиного самца, у которого отрывали крылья: он совершенно уверен, что тот даже не сморгнул бы, даже и его самого не заметил бы. Словно на время соития душа самца перешла в самку. Мысль эта заставляет его содрогнуться, порождая желание перебить всех мух, какие есть на свете.
Ребяческая реакция на действия, которых он не понимал, которых страшился, потому что все вокруг, перешептываясь, ухмыляясь, казалось, давали ему понять, что настанет день, когда и ему хочешь не хочешь, а придется их совершать. Мальчика подмывало закричать: «Не хочу, не хочу!». «Да чего не хочешь-то? — ответили бы, приобретая вдруг вид удивленный и недоуменный, те, кто за ним наблюдал. — Господи Боже, о чем он толкует, этот странный мальчишка?»
Пухлое дело вмещает дневник в кожаном переплете, пять толстых школьных тетрадей, двадцать, не то двадцать пять сколотых вместе разрозненных листов, пачку перевязанных бечевкой писем и несколько печатных брошюр — статейки Бланки и Ишутина, пространную статью Писарева. Разрозненные фрагменты «De officiis» Цицерона, извлечения с французским переводом. На последней странице две надписи незнакомой рукой: «Salus populi suprema lex esto», и ниже, чернилами посветлее: «Talis pater qualis filius» .
Послание, вернее послания: но от кого и кому?
Он берется за дневник и, не читая, двумя пальцами, точно карточную колоду, прокручивает страницы. Вторая половина дневника пуста. Но листов и без того исписано немало. Он заглядывает в начало, проверяя первую дату. 29 июня 1866, день рождения Павла. Видимо, дневник был получен в подарок. Но от кого? Он не может припомнить. 1866-й памятен ему лишь в связи с Аней, как год, в который он повстречал и полюбил свою будущую жену. Год, в который ему было не до Павла.
Словно пробуя слишком горячее блюдо, настороженный, готовый отпрянуть, он принимается за чтение первой записи. Отчет, и довольно тяжеловесный, о том, как Павел провел день. Слог человека, опыта в ведении дневника не имеющего. Впрочем, ни обвинений, ни укоров. С чувством облегчения он закрывает дневник. Как буду в Дрездене, обещает он себе, выберу время и прочту от начала до конца.
Что до писем, это письма от него. Он развертывает самое недавнее, последнее перед смертью Павла. «Я послал Аполлону Григорьевичу пятьдесят рублей, — читает он. — Это все, что мы сейчас можем себе позволить. Пожалуйста, не проси у А. Г. большего. Нужно учиться жить по средствам».
Последние его слова, обращенные к Павлу, и какие же мелочные! И Максимов прочел их! Не диво, что он остерегал меня от чтения! Как унизительно! Его охватывает желание сжечь это письмо, вычеркнуть его из истории.
Он отыскивает рассказ, который читал ему вслух Максимов. Максимов был прав: фигура Сергея, юного героя рассказа, сосланного в Сибирь за то, что он возглавил студенческий бунт, решительно неудачна. Но рассказ, оказывается, длинней, чем пытался уверить его Максимов. Несколько дней, проходящих после убийства мерзавца помещика, Сергей и его Марфа спасаются бегством от преследующих их солдат, укрываясь с помощью крестьян, которые прячут их, отвечая на расспросы преследователей с недоумевающей тупостью, то в хлеву, то в амбаре. Поначалу они в товарищеской невинности спят бок о бок, но понемногу ими овладевает любовь, переданная не без чувства, не без убедительности. Павел определенно подбирался к описанию страстной сцены. Одна перечеркнутая жирной чертой страница содержит по-юношески пылкую речь Сергея, в которой он признается Марфе, что та стала для него не просто соратницей в борьбе, но овладела и сердцем его; тут же содержится куда более любопытный эпизод, в котором он рассказывает ей о своем одиноком, без братьев и сестер, детстве, об отроческой скованности, охватывавшей его в присутствии женщин. Эпизод завершается запинающимся признанием Марфы в ответной любви: «Ты можешь… можешь…» — говорит она.
Он пролистывает несколько страниц, возвращаясь назад. «Я рос без родителей, — говорит Марфе Сергей. — Отец мой был дворянин, сосланный в Сибирь за сочувствие революционерам. Он умер, когда мне исполнилось семь лет. Мать снова вышла замуж. Новый ее муж меня не любил. Едва я достиг положенного возраста, он сбыл меня в кадетское училище. В классе я был самым маленьким — тогда я и научился отстаивать свои права. Впоследствии они перебрались в Петербург, зажили своим домом и тогда уж послали за мною. Потом мать умерла, а я остался с отчимом, человеком угрюмым, от которого я порою по целым дням не слышал ни слова. Я томился одиночеством, и единственными друзьями моими были слуги, от них-то я и узнал о страданиях народа».
И ведь не скажешь, что ложь, чистая ложь, но как ловко все перевернуто, как искажено! Можно же испытывать жалость к семилетнему мальчику, искренне оберегать его, но как его полюбить, когда он столь мнителен, столь неулыбчив, когда он пиявкой впивается в мать, ноет по поводу каждой минуты, проведенной ею без него, когда каждую ночь из смежной с их спальней комнаты до полудюжины раз доносится тонкий, назойливый голос, зовущий мать, чтобы она прибила комара, который его кусает?
Он откладывает рукопись. Отец-дворянин, подумать только! Бедное дитя! Конечно, правда куда безрадостней, а уж безрадостней полной правды и не придумаешь ничего. Впрочем, никто и не ждет, что ангел-летописец станет записывать полную, тусклую правду. Сам-то он в двадцать два года разве с большей приверженностью к истине писал?
Ему хочется сказать Павлу нечто безмерно важное, чего юноша, увы, никогда уже не сможет услышать. Если тебе ниспослан дар писателя, хочет сказать он, не забывай, что его породило. Ты пишешь именно потому, что детство твое прошло в одиночестве, потому, что тебя не любили. («Однако и это еще не все, — хочется добавить ему, — тебя любили и продолжали бы любить, ты сам сделал выбор, сам захотел стать нелюбимым». Какая невнятица! Первый попавшийся хам с гармоникой нашел бы слова получше!) Не от избытка беремся мы за перо, хочет сказать он, но от нужды и от боли. И в сердце твоем ты знал это наверно! Что же до твоего так называемого настоящего отца и его сочувствия революционерам, так это решительный вздор. Исаев был мелким чиновником, писарем. Проживи он подольше, и ты отправился бы по стопам его, стал бы чиновником и никаких бы рассказов после тебя не осталось. («Ну да, — слышит он высокий детский голос, — зато я остался бы жив!») Юноши в белом, играющие во французскую игру, в крокет, croixquette, и ты среди них, живой, на зеленой лужайке! Бедный мальчик! Я вижу тебя на улицах Петербурга то во взмахе чьей-то руки, то в повороте головы, и всякий раз сердце мое вздымается, будто волною. Нигде и везде, разодранный и расточенный, точно Орфей. Дни молодости, chryseos — золотые, блаженные.
Мне же осталась задача: копить сокровища, собирать воедино разбросанные останки. Поэт, бряцатель на лире, заклинатель, вершитель воскрешения — вот в чем мое призвание. А истина? Затекшие плечи, согбенные над письменным столом, и боль в неповоротливом сердце. В черепашьем сердце.
Я пришел слишком поздно, чтобы поднять крышку гроба, чтобы поцеловать твой холодный лоб. Если бы губы мои, нежные, как пальцы слепца, смогли всего только раз коснуться тебя, ты не покинул бы этот мир, тая на меня обиду. Но ты ушел из него как Исаев, а мне, старику, старому скитальцу, осталось лишь брести за тобой, преследуя тень, лиловую на сером, преследуя эхо.
И все же я здесь, а отца, Исаева, нет здесь. Если бы, утопая, ты потянулся к Исаеву, ты ухватил бы лишь руку призрака. В пыльных бумагах, хранимых в коробках, выставленных на черную лестницу семипалатинской городской управы, еще, быть может, и удастся сыскать его росчерк, но в этой памяти, в памяти старика, прижавшего когда-то к груди его жену и ребенка, никаких более следов его не осталось.