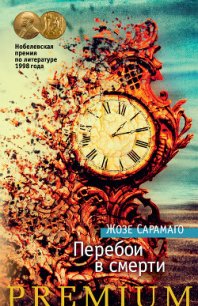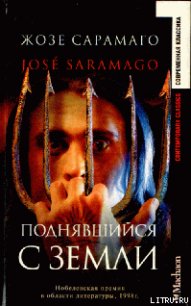Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Когда окончится эта война — а ждать осталось недолго, ибо уже слышны ее предсмертные хрипы, — люди точно установят число всех, кого там и тут, вблизи и вдали, унесла она, и если количество павших на поле брани, погибших в засадах и стычках постепенно утратит свое значение или даже вовсе забудется, то те две примерно тысячи казненных на кресте останутся в памяти жителей Иудеи и Галилеи, и говорить о распятых будут еще много лет спустя, до тех пор, пока земля не обагрится новой кровью другой войны. Две тысячи распятых — это очень много, а покажется — еще больше, если только представить себе столбы, вкопанные вдоль дороги в километре один от другого, или, например, по периметру страны, которая когда-нибудь получит название Португалии, ибо именно такова будет примерная протяженность ее границ. На всем пространстве от реки Иордан до моря слышен плач вдов и сирот: такое уж их вдовье и сиротское дело — плакать и стенать, а потом дети подрастут, пойдут на новую войну, и место их займут новые вдовы и сироты, и если меняются обычаи и обряды и в знак траура вместо белого, к примеру, облачаются в черное или наоборот, если вместо того, чтобы рвать на себе волосы, их прячут под кружевным покрывалом, то слезы во все времена одни и те же.
Мария еще не плачет, но душа ее объята предчувствием — муж домой не вернулся, а люди в Назарете толкуют, будто Сепфорис сожгли дотла и многих там распяли. И, взяв с собой своего старшего, Мария повторяет путь, которым вчера прошел Иосиф, ищет следы, оставленные его сандалиями, время дождей еще не настало, и ветер еще тих и легок и едва-едва притрагивается к земле, однако следы Иосифа уже превратились в следы какого-то доисторического зверя, обитавшего здесь в незапамятные времена. И когда мы говорим: Вчера, это то же, что сказать: Тысячу лет назад, ибо время — не веревка с узлами, которую можно измерить пядь за пядью, время — это волнистый откос, и одна лишь память наша способна привести его в движение и приблизить к нам. Вместе с Марией и Иисусом идут другие жители Назарета, влекомые кто сочувствием, кто любопытством, есть среди них и какие-то дальние родичи Анании, но они-то вернутся по домам, одолеваемые теми же сомнениями, с какими покидали их: раз не нашли его труп, стало быть, он жив, а в амбаре поискать не сообразили: глядишь, и нашли бы своего мертвого среди других, обращенных, как и он, в уголь. Когда на полпути назаретянам встретятся солдаты, направляющиеся в их городок, кое-кто, беспокоясь о своем достоянии, по вернет назад, ибо разве узнаешь, что придет в голову солдатам, когда, постучав в дверь, не услышат они из-за двери никакого ответа. Старший же над солдатами желал знать, что нужно этой деревенщине в Сепфорисе, что они там позабыли и зачем идут туда. Поглядеть на пожар идем, ответят те, и старший удовлетворится таким ответом, поскольку от сотворения мира пламя влечет к себе человека, и иные мудрецы утверждают даже, что это бессознательный отклик на зов, идущий изнутри, на воспоминание о первоначале, словно в пепле заключена память о том, что сгорело, и этим-то объясняется, почему так завороженно смотрим мы на огонь, горит ли он в очаге, согревающем наше жилище, или дрожит на фитильке свечи, жилище это освещающей. Будь мы столь же неразумны и безрассудно-отважны, как мотыльки и бабочки и прочая мошкара, то, должно быть, весь род человеческий в полном составе бросился бы в огонь, и уж тогда бы вспыхнуло и полыхнуло с такой силой, что свет этот проник бы и сквозь закрытые веки Бога, пробудил бы его от летаргического сна, да вот жаль только, что он бы уж не успел узнать и разглядеть нас — сгинувших в пламени. Мария, хоть у нее полон дом детей, оставленных без присмотра, назад не повернула — она так и идет, как шла, и даже не очень встревожена, потому что не каждый же день врываются в город воины царя Ирода избивать младенцев, да и потом, наши славные римляне не только не препятствуют тому, чтобы дети росли, но даже как бы и поощряют их к этому — пока что живите, а дальше видно будет, и дальнейшее зависит от того, насколько будете вы законопослушны, благонравны, да чтобы платили подати вовремя. И вот шагают по дороге Мария с Иисусом, а полдюжины родичей Анании, увлекшись разговором, отстали, плетутся поодаль, а поскольку нет у матери и сына иных слов, кроме тех, которыми можно высказать лишь снедающую их тревогу, идут они молча, чтобы не терзать Друг друга, и странная тишина воцаряется вокруг — не слышно ни птичьих голосов, ни посвиста ветра, ничего, кроме шагов, но и этот звук все слабее и глуше, будто какой-то честный прохожий, забредя ненароком в покинутый хозяевами дом, в смущении торопится выйти оттуда. И за очередным, последним поворотом дороги вдруг открылся Сепфорис, кое-где еще объятый пламенем и весь окутанный уже редеющей пеленой дыма, Сепфорис с почерневшими от копоти стенами домов, с деревьями, обугленными, но сохранившими листву, которая стала теперь ржавого цвета. А вон там, справа от нас, — кресты.
Мария бросилась было к ним бегом, но они были слишком далеко — не добежишь, и, задохнувшись, она умеряет шаг: немудрено, что после стольких и столь частых родов сердце ее надорвано. Иисус, как подобает почтительному сыну, хочет быть рядом с нею и сейчас, и потом, когда они вместе испытают одну и ту же радость или одну и ту же скорбь, однако мать идет так медленно, еле ноги переставляет, что он говорит: Так мы и до завтра не доберемся, и Мария движением руки отпускает его, как бы сказав: Ступай один, и он прямиком, через поле, чтобы срезать путь, опрометью несется к столбам, бормоча: Отец, отец — с надеждой на то, что не найдет его среди казненных, и с мукой, потому что уже нашел. Он подбежал к первому ряду столбов — на иных еще висят распятые, с других они уже сняты, опущены наземь, ждут погребения, и лишь вокруг немногих стоят родственники, ибо большинство мятежников люди нездешние, пришлые и сражались в разных отрядах, сойдясь в единое войско только здесь, перед тем как принять свой последний бой, а сейчас каждый из них отделен, отъединен от других и пребывает в не выразимом словами одиночестве смерти. Иисус не видит отца, и душа его полнится ликованием, но рассудок говорит: Подожди, это еще не конец, а вот и конец — на земле простерт тот, кого он искал, — крови почти нет, лишь разверстые раны на запястьях и на ступнях — и кажется, будто Иосиф спит, но нет, отец, ты не спишь, никому не удалось бы уснуть, когда ноги выворочены так неестественно, спасибо уж и за то, что кому-то хватило милосердия снять тебя с креста, однако казненных так много, что люди, позаботившиеся о тебе, не успели выпрямить раздробленные твои ноги. Юноша по имени Иисус стоит на коленях у тела отца, плача, хочет дотронуться до него и не смеет, но вот настает миг, когда скорбь перебарывает страх смерти, и тогда он обнимает труп. Отец, отец, бормочет он, а рядом другой голос произносит:
Ох, Иосиф, муж мой, — это подоспела обессиленная Мария, которая начала плакать еще издали, потому что, еще издали заметив замершего сына, поняла, что ее ожидает. А теперь плачет она еще неутешней и горше, ибо разглядела перебитые ноги: неизвестно ведь, утихают ли после смерти те муки, что испытывал человек при жизни, особенно в последние ее минуты, весьма возможно, что со смертью в самом деле кончается все, но никто не может утверждать наверное, что память о страдании, хоть несколько часов по крайней мере, не живет в том, что мы называем телом, и нельзя исключить, что разложение и распад плоти — это единственный способ от этих страданий избавиться. Мария так мягко и нежно, как никогда бы не решилась прикоснуться к живому, попыталась поровней положить неестественно вывернутые ноги Иосифа, придававшие ему жутковатое сходство со сломанной куклой. Иисус не дотрагивался до отца, только одернул задравшийся подол хитона, который не сняли с него, поднимая на крест, но все равно голени — они с какой-то особенной пронзительностью подчеркивают» как хрупко, в сущности, человеческое тело, — остались открыты. Берцовые кости перебиты, и потому ступни не торчат вверх, а поникли, открывая раны на лодыжках, куда на запах крови слетелись рои мух.