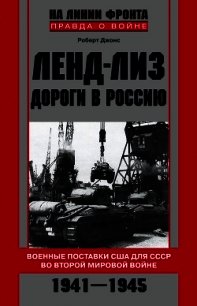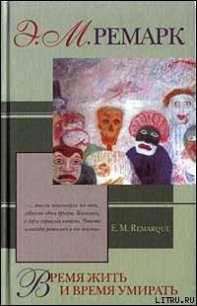Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (электронные книги бесплатно .txt) 📗
Да и не в том дело, что отличничек. Среди отличников тоже ведь иногда люди попадаются. Вон тот же Димка Голубев: вовсе круглый, не чета Очкарику, а — человек!.. Тут дело было в другом.
Ребята уже начали вкалывать, вернее — выкалывать, а редколлегию оставили на первое собрание. С нами собрался и Семядоля. Очкарик сказал:
— Ну, давайте спланируем номер.
— Чего еще планировать? Крой и все дела! — тут же высказался я.
Семядоля рассмеялся, а Очкарик посмотрел на меня как на дыру в стене:
— Ты много газет выпускал? Вот и помолчи. Семен Данилович, что написать в передовой?
— В передовой? В передовой, пожалуй, напишем... Вот так напишем: «Даешь дрова... — нет! — даешь тепло семьям фронтовиков!»
— Такой заголовок?
— Зачем же? Это все. Весь, так сказать, текст.
— Все?!
— Вова, ты меня не совсем, вероятно, понял. Я имею виду выпустить газету-«молнию», боевой листок. Наподобие «От Советского Информбюро», понимаешь? Поблагодарить ударников. И лодырей продернуть. Лозунги веселые, чтобы боевой дух поддержать.
Вумный как вутка Очкарик при этом, конечно, спекся, довольные Оксана с Манодей заулыбались, а я ему врезал:
— Обрыпился? Съел?
Семядоля с укором на меня посмотрел:
— А ты, Виктор, если сразу все понял, успел ли подумать, как будем ее выпускать? Чем и на чем писать? Что — я пока о том не опрашиваю: Вова прав, подумать надо, да и сами наши дела покажут. А вот как?
Здесь уж и я умылся, а Очкарик шибко обрадел:
— Я сейчас сбегаю! У меня дома кисточки, краски — все есть. Даже бумага!
— На фига твои краски! — вступил Манодя.
— Ну, тушь, рейсфедер...
— Совсем лопух. На морозе-то? Оксана тебе будет писать?
— А как?
— Как накакал... Никогда не видал? Больно горе: чинарик в черни...
Манодя разошелся так, что прямо при Семене Даниловиче чуть ли не выругался да еще и ляпнул насчет окурков. Но он в художественных делах кумекал будь спок, так что и тут, здорово влопавшись, не осекся:
— Ну, в общем, бумажку в трубку свернуть — и айда пошел. Чернил бы вот только... И на чем?
Семядоля, хитрованно улыбаясь, достал из кармана завернутый в тряпицу пузырек:
— Я немножечко туши, оказывается, прихватил. На всякий случай. И бумаги листок.
— Не надо бумаги, Семен Данилович, — хотел было вступиться я со своими соображениями, но Очкарик тут как тут съязвил:
— Умник какой! А как? На снегу?
— А что, ребята? — обрадовался Семядоля. — И на снегу! Главный лозунг — вон там, за гаванью, прямо по целине. Чтобы издалека было видно. И подпись: тимуровцы школы номер два. Хотя, может быть, и не надо никакой подписи, здесь до нас работали и после нас будут. Пусть станет общим лозунгом. Ну как, недурственно?
— Да-а-а-ешь! — что было горла заорал я и бросился к реке, но вспомнил и остановился. — Семен Данилович! А не все ведь на снегу? Давайте на газетах! Бумаги же фиг да маленько... ну... с гулькин нос...
— Тоже недурственно! Давайте, — будто и не заметил мою оплошку Семядоля.
— Манодя, дуй домой!
— С чего это я? Ишь чего хотит! Да и откуда у меня газеты? От сырости?
— Монахов! Не хотит, а хочет, — поймал его Семядоля, совсем как моя мать. А ко мне это Манодино «хотит» привязалось-прилипло — прямо забыл, как нормально-то говорить. Я рассмеялся:
— Забодай нога ногу', я работать не могу! — Не ногу', а но'гу! — Все равно не мо'гу!.. У Игоря Максимовича возьми. Он их получает — как нерезанных собак. До тебя добежать быстрее всех. Сшурупил?
— Вася. Не учи ученого.
— Ой, мальчики, а мне ведь ничего не надо писать? Я не умею чи... чернилами. Крупно я не умею. Я пойду тогда? А то девочки работают...
— Да, кончай начинать! — оказал и я. Мне самому было неловко перед ребятами, зудилось прекратить затянувшуюся не из-за чего волынку и заняться делом. Опережая Оксану, я побежал под берег, на лед, к пацанам; но еще слышал, как Очкарик все продолжает разговоры с директором, который тоже торопился к реке:
— Когда нужно тексты придумывать, Семен Данилович?
— Наверное, по ходу дела?
— А кто будет на снегу лозунг писать?
— Посмотрим, посмотрим. Вот вернется Володя Монахов... Он ведь у нас художник?
Вкалывать приходилось, упираться ро'гами, землю, — вернее, ледовую воду рыть — будь здоров, знай поворачивайся! Начальничек, который нас сюда привел и сам тут же отчалил, наказал сторожу присматривать за нами, а нам велел не выбирать, где полегче, а брать подряд. Вечером, сказал, придет, проверит и примет нашу работу. Как будто мы сами не знаем, для чего упираемся тут, как будто нас действительно надо подгонять да промерять!.. Противная такая белая ряшка, каких и не бывает ни у кого.
Легко было, где бревна лежали кучами, иногда прямо такими пучками, что ли, ровненькими, увязанными какими-то вицами заместо веревок, — там верхние кряжи только смерзлись между собой. Мы их отбивали обухами топоров, запростяк отковыривали ломами и пешнями. А нижние и валявшиеся отдельно были чуть ли не целиком во льду; их приходилось обкалывать и с боков, и с торцов, да еще поддалбливать снизу. Чертоломили мы с ними, чертомелили, как черти, и аж чертям тошно! Хорошо хоть инструмента было навалом: до нас тут работали на воскресниках бригады с заводов и вообще со всего города; даже санки были специально подготовлены, хранились в сторожке. С тем вшивым саперным снаряжением — «шанцевым струментом», как назвал его сторож, — которое нам удалось прихватить из дому, здесь нечего было и делать, никаких бы нам «шанцев».
Семядоля расставил нас так: парни вырубали бревна, укладывали их на сани — один конец на одни, другой на вторые. Несколько девчонок, которые помладше, огребали снег и вышаривали под ним одинокие чураки лопатами, остальные скопом волокли бревна на берег и там скатывали их с санок. Поначалу обратно, с горы, они лихо, с визгом, на санках и съезжали, так что мы им завидовали. Но скоро уездились: прямо в гору — круто, трудно, но и объездом не легче — убродно и далеко. Снизу, издали, было на них уж больно интересно смотреть. Они вчетвером, а может, и вшестером тащили за веревки каждые сани, облепляли бревна, как муравьи соломину, — будто какая-то мохнолапая гусеница ползет по горе!
Мамай сложил рукавицы рупором и закричал девчонкам в спины:
— Каракатица, задом пятится!
— Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать! — посгальничал и я следом за ним.
— Володя! Хохлов! Пожалуйста — записывай! — крикнул Очкарику Семядоля. — Не Нагаева, конечно, а Кузнецова. Монахов, смотри, как их недурственно можно нарисовать!
— Подумаешь, Пушкин! — фыркнул Мамай.
— Точно! Уметь надо! — хохотнул я. И тут же обмишурился, заскочив. — Манодя, как будет «недурственно» наоборот?
— Уродственно! — опередил Манодю Мамай. Гад такой — умеет!
А Очкарик, похоже, только и ждал, чтобы ему подали сигнал. Где-то он, было, вообще исчезал с глаз: видно, сочинял. Как же, писатель... Один писатель, говорят, в уборкасе свои стишки писал. Может — пи'сал?.. Наш пи'сатель-писа'тель подбежал к Семядоле и зашестерил:
— Семен Данилович, Семен Данилович! Скажите, а вот так пойдет: наши дрова — фашистам трын-трава?
— Еще один Пушкин выискался? — захохотал Мамай. — Отец, слышишь, рубит, а я сочиню?..
— Такие? Подумай, подумай...
Вот здесь Семядоля точно дал маху! Очкарик тут же с задумчивым лицом побрел аж куда-то на крутояр. Я свистнул в два пальца и закричал:
— Филон! Сачкарик!
Ребята засмеялись.
— Эй ты, клизьма! Вернись-ка. Дело запер в сундуке? Ишачить за тебя тоже Пушкин станет? — поддержал мазу Мамай.
Очкарик сделал вид, будто ничего не слышал, потоптался там для близиру, но должен был вернуться, стал искать лом или топор, что уж там себе брал. Да и брал ли что? Семядоля протянул ему свою пешню:
— Держи. Я себе, пожалуй, топорик возьму...