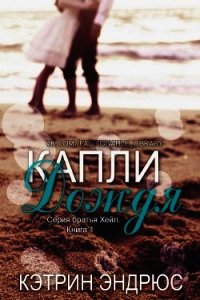Натюрморт с часами - Блашкович Ласло (лучшие книги без регистрации .txt, .fb2) 📗
Она возвращалась, перекатывая в ладонях искрящуюся гальку, а из домов слышала смех и крики, из-за жалюзи — орущий телевизор. И если бы она сейчас его встретила, то свернула бы в сторону или ступила в глубокую тень, Девочка пыталась сама себя разоблачить, подвергнуть самоанализу и утешить известной дозой самоуничижения, убеждая себя, что ей есть дело только до не увиденного рисунка.
На следующее утро ее разбудили голоса в соседней комнате. Человек из маленького туристического агентства, водворивший свой двойной подбородок в заношенный воротник, внезапно привел к старушкам постояльцев и во вторую комнату: довольно молодую супружескую пару из Загреба с двумя детьми. Девочка вспомнила, что сразу неосмотрительно ему поведала, что хотела бы отдохнуть спокойно, и закусила губу. Старушки с проветренным постельным бельем в руках, оживились, это Девочке показалось частью заговора, она их почти возненавидела.
В тупом мальчике она видит будущего хвастуна, крикуна и ипохондрика, а в девочке сразу же распознает ту самую женскую слабость и притворную покорность, которая ее бесила. Родители, разумеется, были эталонно вульгарны. С ними в одну ванную, — она едва не расплакалась, а дети дрались в коридоре. Дня не прошло, как Девочка уже вернулась домой. Даже не оглянулась на старушек, которые проводили ее до шоссе, и на детей, которые ей махали на прощанье.
И вот медсестры перестали показывать ей фотографии своих детей. Когда в перерыве Девочка входила в комнату отдыха, они обычно замолкали. Однажды, придя на работу в сером пиджаке Мило, у которого подвернула рукава, она опять услышала шепот за спиной. Если бы она умела читать по губам, то могла бы увидеть на обрамленном карминной помадой хихиканье слово: чучело.
В Сараево у Девочки было два адреса: студенческий, на улице Светозара Марковича, в доме, построенном в австрийские времена, который так напоминал ее родной, что иногда она просыпалась по утрам, не зная, где находится, пока через высокое окно, откуда-то издалека, сверху, не слышала гипнотический призыв муэдзина; а на Невесинской улице, вьющейся вверх, к небу, как волшебная фасоль, она жила с мужем.
Черт его знает, почему, интерьеры второго дома полностью выветрились у нее из головы, все путается, помнятся только детали — часы на стене со слабым боем, полка с книгами, угрожающая рухнуть и кого-нибудь убить, старый Underwood Станислава, на котором он печатает одним пальцем, ссутулившийся и отсутствующий, и, да, тот восточный молитвенный коврик, теперь, я думаю, что он в мансарде, у Косты.
Девочка любит улицу после дождя и умоляет доктора Гроховяка хотя бы ненадолго оставить работу и пойти с ней погулять, на что он, вдохновленный ее энтузиазмом, отнекиваясь, все-таки соглашается. Куда же пойти? Если они отправятся в сторону набережной, до моста, на котором в упор расстреляли этого-как-его-звали,[28] то наверняка встретят кого-нибудь из знакомых, а это испортит все. Поэтому оба оглядываются.
Если пойти вверх, в сторону массивных холмов, — Девочка с блокнотом и карандашами в руках, со спокойствием и грациозностью модели, глаза которой пусты, Станислав, посматривая на карманный хронометр, морща нос, чтобы разболтанное пенсне не сбежало с золотой цепочки, неся фамильную трость, в которой спрятана самая настоящая сабля (с тусклым блеском закопанных сокровищ), — и если же они, таким образом снаряженные, двинутся вверх, по солнечной стороне, то знают, что им надо будет остановиться, когда одолеют насыпь старой железной дороги (откуда те дети из анекдота давно унесли рельсы), чтобы на старом еврейском кладбище, под звук бубна облетающих с тополей листьев Станислав отдышался, прислонившись к сефардской гробнице, похожей на кошачью лапу.
Делая вид, что она не замечает его изнеможения, руки, под пиджаком потирающей грудь, сжимающей маленькую лягушку сердца, не замечает загудевших канатов вен, напрягшихся на шее, пота на белых, как полотно, щеках, наверняка холодного и маслянистого; Девочка ждет, когда больной, сдвинув шляпу, откроет лицо, ослабит галстук-бабочку, а потом, словно жизнь есть везде, она начнет его рисовать в давно запечатленном ландшафте, который очень медленно вращается. Девочка, прикрывшись блокнотом, болтает, ее карандаши поскрипывают. Станислав смотрит в землю, задумавшись.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Не двигайтесь, — словно бы сердится Девочка. Ее модель пожимает плечами. Улыбка дрожит на ее губах, как струна. Он отдышался. Лекарства в металлической коробочке, которую он носит в кармане, позвякивают, стоит пошевелиться. — Вы нарушите соотношение света и теней, если продолжите вертеться, — продолжает Девочка. Станиславу лучше. Он что-то говорит и позволяет взгляду, как перышку, слететь вниз, на город.
Бывают дни, когда Девочка его оставляет, сжавшегося над собственным телом, среди овечек, которые здесь пасутся на вольном выпасе, меж надгробных камней давно живших и умерших людей, с нанесенными на них непонятными, Божьими письменами, древнее их, кажется, только колючая трава, которая топорщится во все стороны, в ней можно утонуть.
Тогда Девочка, подобно козе, которая выбирает хорошие камни, углубляется в Соукбунар-махаллю, и еще дальше, к вершинам холмов, откуда возвращается, набрав грибов (тайну которых она сама разгадала), с голым животом, потому что грибы собрала в задранный пуловер, и высыпает их перед Гроховяком, который тем временем уснул на солнце, прислонившись к памятнику.
* * *
А однажды вечером, как раз тогда, когда, немного выпив, влюбленные отправились вниз, к Миляцке, прячась от света и людей, держась за руки, болтая и смеясь над собой из-за такого дурашливого поведения, они, бродя по окрестностям, оказались на улице Новой.
Смотрите, — Станислав показал Девочке ряд австрийских домов, на первый взгляд, образцовых, — когда-то здесь, — он совсем понизил голос, — шли по порядку солдатские бордели: Голубые фонари, Белые фонари, Красные фонари. А вон тот, там, назывался Пять машин!
Они остановились у здания, в котором когда-то был полицейский участок. Молчали. Начал моросить легкий дождик. Теперь они шли, не спеша, рядом, стараясь не касаться друг друга. — Сташа, — произносит Девочка.
Знаю, вы хотели бы меня спросить, был ли я когда-нибудь с проституткой, не так ли?
Девочка взяла его под руку, и едва не свалилась с каблуков.
Garage de bateaux
В Париже, в начале сороковых, одной безнадежной ночью я ехал в такси.
Во всем городе фонари укутаны в синюю ткань, ведь только фонари борделей не были видны из самолетов. Я задержался на собрании кружка, а потом в бистро, с коллегами. Мы долго и как-то отдельно от всех беседовали о медицине, слишком быстро пили вино. Уже началось затемнение, моя несчастная страна была растоптана, продана, а я безостановочно говорил, даже громко смеялся. Когда мы, наконец, расстались, я был настолько опустошен, мне казалось, что не могу сделать ни шагу, словно ноги мои ампутированы, и если продолжу идти, то закончу, как тот пьяница у Мопассана, где-нибудь на набережной Сены, неспособный встать на ноги, мертвый.
Я шел по середине пустой улицы, раскачивался, и только «кошачьи глаза» внезапно заискрились на черном флаге. И когда я потерял всякую надежду встретить в этом проклятом арондисмане живую душу, прямо за моей спиной, неслышно, остановилось такси.
Вас будто сам Бог послал, — сказал я, садясь в автомобиль, и замечая, что язык у меня заплетается
Нет, не Бог. Долг, — говорит таксист серьезно, и в его голосе, и во всей фигуре, в которой даже в положении сидя угадывалось что-то от скульптур Родена, я распознал не акцент, но чистую, характерную славянскую окраску.
Вы не парижанин, — спросил я неуверенно.
Парижанин, — ответил он бесстрастно, — вот уже двадцать лет, а когда-то я был русским. А вы, и вы, похоже, эмигрант?