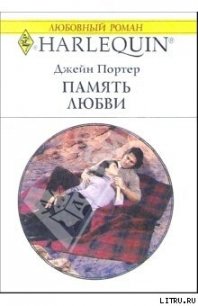Корабль дураков - Портер Кэтрин Энн (книги регистрация онлайн TXT) 📗
— А вы что, красная? — спросил он.
По-прежнему опершись скрещенными руками на перила, он придвинулся ближе, слегка повернулся и сбоку оглядел ее, точно лошадь, которую собрался купить. Тяжелым взглядом, как ладонью, провел по ее ушам, по шее, груди, вниз по бедрам и при этом зло поджал губы; казалось, все, что он видит, ему сильно не нравится, но глаза его блуждают помимо его воли. Миссис Тредуэл пыталась перехватить его взгляд, но он не смотрел ей в лицо, все еще слишком по-девичьи миловидное, хотя молодость ее и миновала.
— А вы понимаете смысл этого слова? — холодно спросила она, отступая от Дэнни вдоль перил по мере того, как он к ней придвигался.
Сейчас она пожалела, что выпила в Гаване с Вильгельмом Фрейтагом три порции пунша; ведь, по правде сказать, она и сама не знала, что значит «красный», просто этот дурак Дэнни бесил ее, и она с радостью отхлестала бы его по щекам. Она в жизни не встречала ни одного «красного» и не думала когда-нибудь встретить.
— Я уж знаю, что бы я с ними сделал, будь я у власти, — упрямо и злобно сказал Дэнни, заглядывая в вырез блузки миссис Тредуэл.
И она сразу спохватилась. Вечная история — надо же, вздумала пререкаться с пьяным, совершенно чужим человеком, да притом une espece de type [10] , на тему, в которой оба они ничего не смыслят, и она, уж во всяком случае, вовсе не жаждет в этом разбираться. Она отвела глаза, повернулась на каблуках и пошла прочь, улыбаясь в пространство и стараясь не ускорять шаг.
Поздно вечером корабль, окутанный зловонной духотой порта и тучами москитов, отошел от пристани. Появилось немало новых пассажиров первого класса, причем «старожилы», которые уже чувствовали себя почти хозяевами корабля, отнеслись к ним поначалу как к непрошеным гостям. Допоздна шумели и разгуливали по палубе шестеро студентов с Кубы, по виду полукровки. Появилось несколько супружеских пар, а при них дети всех возрастов, и от всех, разумеется, не было покоя. После ужина студенты выстроились в ряд и пошли вышагивать мимо шезлонгов, где люди более степенные мечтали мирно отдохнуть, и по салонам, где пассажиры сидели за книгой или за картами; опять и опять обходили всю палубу мимо окон, за которыми люди пытались уснуть, и горланили песенку про Кукарачу, несчастную маленькую таракашку. Бедняжка таракашка больше не может бегать: во-первых, у нее не осталось марихуаны — нечего курить; во-вторых, нет на марихуану денег; в-третьих, у нее и ног-то нет, и, в-четвертых, ее никто не любит, — и студенты топали в ряд, положив друг другу руки на плечи, и снова и снова перечисляли таракашкины несчастья. Студенты были разного роста, но все одинаково крепкие, жилистые. И на всех мешковатые «оксфордские» штаны, пузырящиеся ниже колен, — одинакового покроя, но неправдоподобной расцветки и самых разнообразных узоров: в крупную и мелкую клетку, полосатые, зигзагами. На всех — теннисные туфли, рубашки с короткими рукавами и открытым воротом. Иногда эта пестрая шеренга начинала извиваться, как змея. Или они вдруг принимались размеренно, по очереди, подпрыгивать, так что шеренга колыхалась справа налево, взад и вперед, наподобие морской волны.
Вильгельм Фрейтаг некоторое время следил за этими выходками, решил, что от неугомонных студентов наверняка до конца плавания никакого житья не будет, и с недоумением спросил себя, неужели и он когда-то был таким же нелепым безмозглым щенком. Ему уже тридцать, он пять лет как женат, и жизнь становится делом очень нелегким, куда тяжелей, чем он рассчитывал; хотя на особую легкость рассчитывать, конечно, не приходилось. Но неужто и он когда-то был таким оболтусом? Да, был, он прекрасно это помнит; но он еще не достиг того возраста, когда воспоминания о дурачествах молодости настраивают на чувствительный лад — если приходилось вспоминать, его только передергивало. И сейчас тоже передернуло, и он слегка сгорбился, словно шагал навстречу снежному ветру.
Он собирался пойти спать, но на полдороге приостановился и заглянул в темный провал нижней палубы. Там, скорчившись, лежали люди — прямо на голых досках, только под головой узел с барахлом. Немногие мужчины спали в гамаках, немногие женщины со спящими младенцами на коленях откинулись в шезлонгах. А остальные спали вповалку, и все это напоминало груду выброшенного за ненадобностью старого тряпья. Фрейтаг стоял и смотрел на эту безмерную, непостижимую нищету, подобную медленному разъедающему неизлечимому недугу, — и ни в его сознании, ни в характере, ни в его прошлом не нашлось ничего, что помогло бы ему представить себе хоть какое-то лекарство от этого недуга. Он с детства жил благополучно, как все люди среднего достатка, — из этой среды выходили адвокаты и врачи, инженеры и учителя, все они очень уважали свои профессии, но самым естественным их занятием и неотъемлемым преимуществом было делать деньги: возможно ли найти более подходящую карьеру для хорошо воспитанного и образованного молодого человека? Фрейтаг еще не был богат, но до самого последнего времени ему и в голову не приходило, будто что-либо может помешать ему разбогатеть. И, разумеется, он признателен родителям, они дали ему образование, но по справедливости — да, по справедливости надо сказать, богатством он будет обязан прежде всего самому себе; а если потерпит неудачу, то лишь из-за какой-то собственной слабости, о которой и сам не подозревал. В нем жило брезгливое отвращение к бедности, бессознательное презрение и недоверие к беднякам, которые кишат и плодятся в грязи, точно черви, и оскверняют самый воздух вокруг. А между тем, думал он с невольной жалостью, шагая дальше по палубе, они ведь необходимы, у них есть свое место в мире. Что бы мы делали без них? И вот их отсылают из страны, где они не нужны, в страну, где, уж конечно, их не ждет радушный прием; позади у них тяжелая работа и жизнь впроголодь, впереди — никакой работы и самый настоящий голод, позади страдания и впереди страдания — кто же может это вынести? Разве только животное, последняя жалкая скотина. Он стряхнул с себя это ненавистное чувство — жалость — и задумался о задаче, что стояла перед ним самим, и вдруг понял: дрожь, которая пробрала его при виде тех несчастных, рождена страхом за себя, ему мерещатся ужасы, порожденные его тайными опасениями. Он, немец из хорошей, солидной семьи, воспитанный в лютеранской вере, истинный христианин, наперекор ожесточенным протестам обоих семейств, наперекор своему же трезвому суждению, наперекор всякому здравому смыслу и рассудку, женился на еврейке с красивым экзотическим именем — Мари Шампань. Ее прадеды были выходцами из… — откуда бишь там выходили евреи в средние века? — перестали именоваться Авраамами бен Иосифами, или как там еще их звали, назвались по имени нового края и осели в нем на несколько столетий. Иные перешли в католичество или женились на христианках, и еврейская община отвергла их, они снова изменили свои имена и стали доподлинными французами; а прямые предки Мари оказались неуступчивы — вновь начали скитаться, и через Эльзас, Бог весть почему, их занесло в Германию. Чистейшее недомыслие, считал Фрейтаг. Но они сохранили выбранную прежде звучную французскую фамилию. И все они взяли себе за правило сохранять терпимость и широту взглядов и отнюдь не чуждались иноверцев, если те принадлежали к тому же кругу и сами не отворачивались от них. Но вот он и Мари полюбили друг друга, полюбили верно, крепко, — и будто разворошили осиное гнездо. Они терпеливо, упорно сражались за свою любовь и выиграли битву как с его, так и с ее родней, близкой и дальней; и в конце концов обвенчались в лютеранской церкви, под всхлипыванья, охи и ахи, раздававшиеся в одной тесной кучке по левую сторону от главного прохода… Родители Вильгельма не сумели скрыть облегчения, когда он заявил, что уедет в Мексику, их явно обрадовало, что этот запутанный узел так просто развязался. Мать Мари, вдова, вообще не признавала замужества дочери — разве что с точки зрения юридической; но она была женщина вполне от мира сего, жизнерадостная, не слишком набожная и умела, сообразно обстоятельствам, не подчеркивать свою национальность: чего люди не знают, то мне не повредит, рассуждала она; кому какое дело, кто я есть, кроме меня самой? Замужество дочери пугало ее, она боялась скандала, беспощадного суда родных и друзей — и недаром боялась, бедная женщина. Под конец она переехала к дочери и зятю, решила разделить их судьбу, с ними жить и умереть — на редкость добрая душа, благодарно подумал он. И вспомнил, как они все трое стали гордиться собой и друг другом, потому что сумели отбросить дурацкие предрассудки и жить свободно, хорошо и открыто. «О Господи!» — чуть не в полный голос сказал Вильгельм Фрейтаг. И хмуро улыбнулся. «Где ты, бог Израиля?» — прибавил он и повернул в коридор, ведущий к его каюте.
10
Здесь: довольно сомнительным типом (франц.)