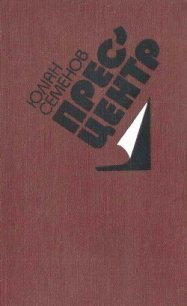При исполнении служебных обязанностей - Семенов Юлиан Семенович (бесплатные версии книг .TXT) 📗
15
Морозов спал, и Воронов спал. Не спал только Струмилин. Он лежал на спине и смотрел в небо. Оно только что совсем очистилось от низких серых туч и теперь сияло: голубое, бесконечно высокое и доброе — небо всех людей. Нигде нельзя так увидеть небо, как в Арктике. Или разве что в пустыне. В лесу прежде всего видишь деревья, в поле — травы, а в Арктике — небо. Оно здесь бесконечно могуче и велико. И надо быть обязательно сильным человеком, чтобы любить его и радоваться ему, а не бояться его холодной могущественности.
Нигде на земле — ни в лесу, ни в поле, ни у реки — не возникает с такой четкостью вопрос о жизни и смерти. В лесу не так страшно умирать — вокруг тебя деревья. В поле — кругом травы. На льду под холодным и прекрасным небом, таким огромным, что чувствуешь себя крохотной частицей — и не частицей мироздания, связанной с окружающей природой, как в лесу или в поле, а чужеродной песчинкой, невесть каким ветром сюда занесенной, — здесь нельзя думать о смерти. Подумавший — погибнет. Нужно очень верить в жизнь и в себя, чтобы чувствовать себя здесь как равный с равным — и со льдом и с небом. Струмилин чувствовал себя наравне с ними, и поэтому ему совсем не было страшно лежать одному с острой болью в груди, и в висках, и в кончиках пальцев. Он не думал о том, что с ним могло каждую минуту произойти. Он думал о себе только в будущем времени.
«Надо будет поехать на море, — думал Струмилин. — Я возьму Жеку и Пашку. Я обязательно возьму его с собой. Я люблю его потому, что он очень чистый парень. Ему в жизни выпало много тяжелых испытаний. Он рано узнал человеческую подлость, но не сломался, остался верным и честным парнем. Видно, правда, родившаяся у нас, так сильна, что ее никто погубить не сможет. Никто и никогда».
Иногда Струмилину начинало казаться, что он слышит мотор самолета. Он приподнимался на локтях, у него сразу же начинало еще сильнее болеть в груди и очень напрягалась шея. Но самолета не было, шум мотора ему только слышался. В подвале кенигсбергской тюрьмы Струмилину часто слышались голоса Жеки и Наташи.
Но он заставлял себя тогда не верить этому. Голоса близких там, в подвале, делали его добрым, а в борьбе, в борьбе не на жизнь, а на смерть, нельзя быть добрым ни на минуту, даже во сне.
«Не знаю, сколько бы я сейчас отдал за одну таранку, — подумал вдруг Струмилин. — Одну сухую, просоленную, солнечную таранку, которая всегда пахнет для меня пиратским кораблем. А поэтому — детством. Смешно, в детстве я мечтал о пиратах и о палатках кочевников. Отец смеялся. Он говорил: „Кочевником стать может любой бедняк, а ученым человеком — только богатый“. Наивный мой, добрый отец…»
Струмилин вспомнил Ливан. Когда он вылез из багдадского самолета и сел в такси, шофер спросил:
— Мсье хочет посмотреть город или прямо в отель?
— Давайте посмотрим город.
Шофер не понял смешанного немецко-англо-французского языка Струмилина, но по тому, как тот кивнул головой и улыбнулся, догадался, что мсье не прочь посмотреть город. Он провез Струмилина мимо кедровой рощи в предместье Бейрута.
В роще стояли черные, заплатанные палатки. Рядом с палатками паслись стреноженные кони. Кони были очень красивы и ухожены. Струмилин решил, что здесь, в этих рваных черных палатках, остановились кочевники. Но в посольстве ему объяснили, что такая палатка стоит дороже, чем самый роскошный номер в отеле. В этих палатках жили юноши и девушки — дети крупных капиталистов мира.
Они хотели чувствовать себя кочевниками.
«Вот время, — усмехнулся Струмилин, — бедному теперь легче стать ученым, чем кочевником. Палатка стоит дороже семестра обучения в университете…»
«Скажет ли Жека Пашке про то, что у нее было в жизни? Она обязана сказать ему. Жека — честная, она все скажет. А поймет ли он? — думал Струмилин. — У Симонова хорошо написано:
«Не с чистотою ясных глаз, с неведеньем детей, а с чистотою женских ласк, бессонницей ночей…»
Он сейчас ни о чем другом не думал, как о Жеке и Пашке. Он вспоминал далекое, но, вспоминая это далекое, неизменно возвращался мыслями к дочери и Павлу. Он хотел думать о чем-либо другом, потому что думы о детях всегда очень ответственны и серьезны, а когда думаешь о большом и самом важном, всегда затрачиваешь много сил. Струмилин понимал, что ему надо сейчас беречь силы для своего сердца, но как он ни пытался увести свои мысли на что-то другое, ничего у него не получалось. Он думал двумя «эшелонами». Первый, зримый, проходил у него перед глазами, ассоциативно вызывая второй «эшелон» — мучительно-требовательный и беспощадно-строгий к себе и к детям.
— Идут, — прошептал Струмилин.
Теперь он слышал мотор совершенно явно: где-то шел самолет. По звуку Струмилин определил, что самолет шел низко, с северо-запада.
— Володя! — позвал Струмилин.
Воронов только заворочался во сне, а Морозов, услыхав тихий голос Струмилина, пружинисто вскочил и быстро огляделся.
— Что?
— Самолет.
Морозов прислушался.
— Точно…
Лицо его враз просветлело. Он слышал мотор самолета — значит, он слышал жизнь.
Никто из трех оставшихся на льдине ни разу не обмолвился ни единым словом о том, что могло случиться с ними каждую секунду. После того как разломало основную льдину, каждую секунду можно было ждать новой ломки, потому что было новолуние, а в новолуние в Арктике всегда происходит торошение и ломка льдов. Разломайся та льдина, на которой остались Морозов, Струмилин и Воронов, — и всё. Самолет сесть не сможет. Надо ждать вертолета с материка. А сейчас гнать вертолет — в туман, в низкую облачность, за две тысячи километров — дело трудное, рискованное, а главное, требующее времени.
— Геня, — сказал Морозов, трогая за плечо Воронова.
Тот зевнул и начал протирать глаза кулаками, будто маленький ребенок.
— Вот нервы… — завистливо сказал Морозов.
— Это у меня от полного отсутствия воображения, — усмехнулся Воронов и сладко зевнул.
Струмилин и Морозов переглянулись: значит, парень тоже все прекрасно представлял себе и держался с поразительным хладнокровием и спокойствием.
Морозов ушел в палатку — настроить радиопривод.
— Володенька! — крикнул Струмилин и не почувствовал боли в груди. Ему сразу же стало легко и свободно. Он засмеялся.
— Что?
— Слышите?! Геворк ведет их точно. И потом у меня вроде перестало болеть.
Воронов сказал:
— Если вы подговариваетесь к папироске, Павел Иванович, то все одно не дам.
Струмилин снова улыбнулся. Ему теперь все время хотелось улыбаться.
— Володенька, — позвал он, — у вас в термосе нет глотка кофе?
— Чай.
— Будьте ласка, принесите.
Морозов вышел из палатки с термосом в одной руке и с пластмассовой кружкой в другой. Он подошел к Струмилину и стал что-то говорить. Но ни Струмилин, ни Воронов, ни сам Морозов ничего не услыхали. Морозов не слыхал сам себя. Все слышали артиллерийскую канонаду. Струмилину показалось, что бьет дивизионная артиллерия перед началом генерального наступления. Массированный, тугой гул стоял в воздухе.
Со спины, с юго-запада, на льдину шла огромная, все время увеличивающаяся гряда торосов. Лед дыбился, играя под солнцем, потому что он был мокрый. Лед переворачивало, вырывало из толщи, из монолита — синего, будто выкрашенного синькой; лед несло вперед со страшной, видимой скоростью. Ледяной вал двигался, и было видно, как он двигался: прямо на зимовщиков, сокрушая на своем пути оставшуюся посадочную площадку.
Морозов бросил термос и пластмассовую кружку на лед. Чай разлился, и лед стал красным. Морозов хотел было крикнуть Воронову что-то, но понял, что тот все равно ничего не услышит, Морозов ничего не крикнул Воронову. Он схватил тяжелый ДАРМС и начал оттаскивать его в сторону — туда, где ледяной вал не должен был пройти.
«Молодец, — спокойно подумал Струмилин, — только теперь это ни к чему. Все равно сесть сюда нельзя».