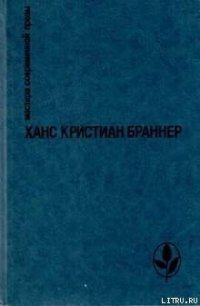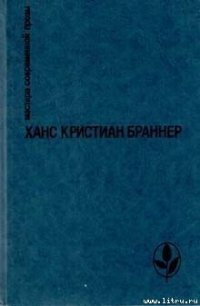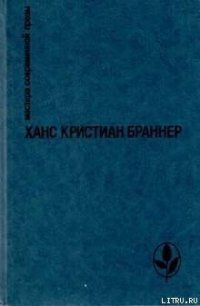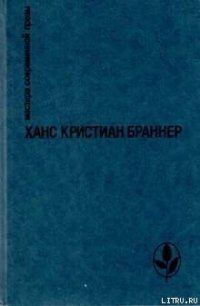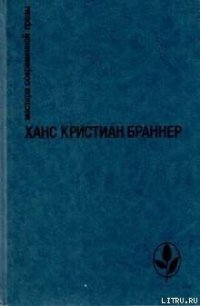Никто не знает ночи - Браннер Ханс Кристиан (полная версия книги .TXT) 📗
– Ибо даже на небесах умные будут надувать тех, кто поглупей. – Маленький толстяк не покидал своего постоянного столика, он сидел в салоне для курящих на пароходе в антверпенской гавани, устремив многомудрый взор через зеркальное стекло иллюминатора в солнечную дымку, где флаги всех наций торжественно скользили мимо: разнообразные солнца и звезды, кресты и полумесяцы государств всего мира на пути в родные порты. Его юная белокурая дочь сидела рядом, не притрагиваясь к еде и к питью и не произнося ни слова. И вот пароход наконец отчалил, с палубы по случаю поднятия трапа донеслось дружное многократное ура. Маленький толстяк заказал шампанское. Каким-то образом Томас вместе с другими очутился в его окружении, за столом, прямо напротив дочери. Вблизи она казалась почти ребенком. Не пригубив вина, она тихо сидела, уткнувшись взглядом себе в колени. Посмотри на меня, думал Томас, ну же, посмотри. В конце концов она откликнулась на его мысленный зов, вскинула голову и, встретившись с ним глазами, тотчас вновь опустила их, стала легонько водить рукою по краю стола. Детская ручка, подумал он. Потом он о ней забыл. Или не забыл? Ходил по всему пароходу и, сам того не ведая, искал ее? И нашел на верхней палубе, где она лежала на солнце с закрытыми глазами, держа руку, узкую детскую ручку, на раскрытой книге? Как все было, спала она или нет, разговаривала с ним или по-прежнему хранила молчание? А поздно вечером он стоял у двери в ее каюту, вслушиваясь в доносившиеся оттуда звуки, в тихий и жалостный детский плач, – или этого не было? Он не знает. Ночь выдалась очень теплая, ему не спалось; не улежав в постели, он оделся и пошел бродить: карабкался по множеству лестниц, проходил через множество помещений, заполненных сидящими, лежащими, спящими людьми, осторожно пробирался по палубе между многочисленными распростертыми на ней человеческими телами, которые метались и стонали в беспокойном сне; он прошел на нос корабля, где сидел у включенного прожектора человек, выискивавший в море первые мины, он прошел на корму и стоял смотрел на звездное небо, следил глазами за оставленной кильватерной струей полоской, тянувшейся к берегу с его редкими далекими огоньками. Наконец его осенило: он понял, для чего он там стоит. Страх исчез, как тень, он чувствовал себя невесомым и бестелесным, чувствовал себя полностью свободным и тихонько смеялся во тьме, взбираясь на поручни, он занес уже ногу на самый верх. Всё, подумал он и…
Почему он не прыгнул? Когда он увидел ее? Лишь в самый последний момент? Он не слышал, как она подошла, ни с того ни с сего она оказалась возле него. «Взгляните», – сказала она, указывая вниз. Долгое время они стояли рядом, ничего не говоря, не глядя друг на друга; перегнувшись через поручни, они созерцали фосфорическое свечение ночного моря. Когда он наконец украдкой посмотрел на ее лицо, оно блестело от слез, и не успел он вымолвить слово, как она кинулась к нему на грудь. Спрятав лицо, она долго беззвучно плакала, только волосы да плечи чуть заметно вздрагивали, а потом он зажал в ладонях ее голову и стал целовать мокрые глаза, и щеки, и губы, и она не противилась. Под конец он уже не знал, кто плачет, она или он сам, лишь чувствовал во рту соленый вкус и видел, как мерцают звезды на небе, ее белое лицо словно скрылось в тумане. Теперь она как будто улыбалась ему, но когда он хотел что-то сказать, она отрицательно покачала головой. Взяв за руку, она оторвала его от поручней и увела в темный угол, где никто не мог их увидеть, они забились туда вдвоем, как дети, которые спрятались от взрослых. Заметив, что она дрожит от холода, он снял свою куртку и укутал ее, застегнул все пуговицы, он долго сидел, держа ее на руках и крепко прижимая к себе, но всякий раз, как он пытался что-нибудь сказать, она отрицательно качала головой.
«Взгляните», – сказала она ему, стоя у поручней и указывая на ночное море с его фосфорическим свечением. Вот и все, что он от нее услышал, единственное слово, затерявшееся в слезах. Догадалась ли она, когда увидела его, чего он хотел, для того ли подошла, чтобы удержать, или одно и то же общее желание свело их обоих в одном и том же месте? Он не знает этого и не узнает никогда. Произошло ли это с ним наяву или только пригрезилось во сне? А сейчас, в этот миг, в этом тумане пустых слов, и звуков, и мелькающих лиц, бодрствует ли он, заглядывая в позабытую явь, или спит и видит во сне давнюю грезу? Он послал свой вопрос в ночную тьму и услышал ответ: отдаленные звуки тихого безутешного плача. Он изо всех сил старался открыть глаза, он тряс незримую решетку, ведь сейчас это важнее всего на свете, сейчас это вопрос жизни или смерти – вовремя поспеть, чтобы унять бессмысленный плач…
– Том, ты спишь?
– Нет, я не сплю.
– Одну минутку.
Распрямившись в кресле, Томас успел лишь увидеть, как блеснули атласные полосы на черных брюках прошедшего мимо Габриэля. Вон он трусит через большую гостиную, вон остановился в зимнем саду и поправляет гардину. «Пустяки, – слышится оттуда его голос, – совершеннейшие пустяки. Не обращайте внимания, дети мои». Платье цвета морской волны торопливо скользнуло в столовую, где свет и шум, мужская фигура без пиджака медленно, деревянным шагом проследовала через холл и исчезла за дверью в прихожую. Что он такое прятал в руках?
– Пустяки, разумеется, – сказал Габриэль, который опять уже стоял перед камином, – просто двое из караульной службы. Светомаскировка была не совсем в порядке, вот они и зашли предупредить. Похоже, сегодня ночью здесь какая-то заваруха. – Он подбросил в огонь дров. – Полицаи разъезжают по дорогам, не дай бог, заметят свет – пальбу открыть могут, с них станется. А все от страха, чертяки несчастные. И с гестапо, между прочим, та же история, – добавил он, поворачиваясь к Томасу, – поэтому никогда не надо давать себя запугать. Важно только знать какое-нибудь имя, которым их при случае можно огорошить. Den Herrn Mannteufel will ich anrufen, – он поднял трезубую кочергу к потолку, – der ist mein guter Freund. Ach, Sie kennen den Mannteufel nicht? – Он бросил на Томаса угрожающий взгляд поверх роговых очков. – Sie sollen ihn kennenlernen! Was, Sie lachen? – Он приставил трезубец к груди Томаса. – Sie sollen bald gar nicht lachen! [27] Фокус-покус. – Он снял очки и отвел их в сторону. – Кеinе Hexerei nur Behandigkeit [28], – он снова водрузил очки на нос. – Говорят, ну что может значить имя. Имя может значить все. Том, ты спишь?
– Нет, я не сплю.
– Так на чем бишь мы остановились? – Габриэль плюхнулся на свою подушку. – Ну да, реклама, – он опять вскочил, – реклама, Том. И в наше время есть люди, отстаивающие деловую рекламу, честную рекламу. Что ж, честь им и хвала, когда речь идет о таких вещах, которые могут быть измерены и взвешены, о таких вещах, как станки и приборы. Техника есть техника, товар должен отвечать своему назначению. Но ты подумай обо всех тех вещах, которые должны отвечать человеческим мечтам, – сказал он, расхаживая взад и вперед, – утолять человеческое тщеславие, человеческое честолюбие, человеческую ненасытность. Человеческий страх, наконец. – Он остановился перед Томасом, раскорячив ноги, он покачивался на носках и держал трезубую кочергу за спиной. – Сюда относится практически все, что можно купить за деньги, – продолжал он, – начиная с зубной пасты и медикаментов и кончая автомобилями, домами, мебелью, картинами. Что такое, по-твоему, эти вещи, если не символы иррациональных мечтаний? Мечтаний о величии и власти, мечтаний о романтике и красоте. Я знаю, что ты мне скажешь: это несчастливые для человека мечты, они обречены на вечное крушение, не имеют ничего общего с реальностью. Но что называть реальностью, Том, когда дело касается людей? Ответь-ка мне на этот вопрос, ты ведь у нас такой умный. Я уже старик, – сказал он, глядя на блестящие покачивающиеся носы своих туфель, – усталый больной старик, и мне день ото дня становится ясней, что смерть – вот единственная истинная реальность. Но можно ли сказать такое обыкновенному простому человеку? Можно ли прийти к нему с религиозной проповедью веры как единственно насущного блага? Или с политической проповедью общественной солидарности как человеческой реальности? И надо ли пробуждать его от сна, открывая реальность, недоступную его пониманию и способную лишь толкнуть его в объятия самых ужасных бед? Нет, пусть он, во имя всего святого, сохранит свою веру в вещи как истинную ценность, пусть он лелеет свою мечту о новых вещах, о лучших вещах, о множестве вещей. Она не сделает его счастливым, это правда, но любые другие устремления могут сделать его лишь еще несчастливей, привести к разладу с самим собой. Уж на это-то мы насмотрелись. Вот почему мы должны пустить в ход все средства, какими располагает реклама, чтобы он укрепился в своей мечте. И делать это нужно ради него самого. Мы должны убеждать его текстом и иллюстрациями, что все человеческие чувства непосредственно связаны с вещами, неотделимы от вещей. Почет и власть измеряются в вещах, достоинство и самоуважение личности зависят от вещей, любовь к отечеству, к природе, к женщине – все выражается через вещи, вещи и еще раз вещи. Мы, в сущности, давно идем по этому пути, но надо последовательно идти по нему до конца. Даже мечту человека о загробной жизни мы должны сделать конкретной и осязаемой, обставить множеством вещественных подробностей. Не успеет он, почив, сомкнуть очи, как проснется обладателем всех тех вещей, которых напрасно домогался при жизни. И вот уже он в самом большом и дорогом автомобиле раскатывает без ограничения скорости по небесным дорогам, в окружении улыбчивых пейзажей с непременной грядой синих гор вдали. Он находит себе точь-в-точь такое жилье, какое жаждал иметь при жизни, устроенное со всем мыслимым комфортом и роскошью: загородную виллу в райском уголке, или горный замок с зубцами и башенками и с великолепным видом на море, или дворец с колоннами и мраморными лестницами в одном из крупных небесных центров – в зависимости от желаний и потребностей. Он может удовлетворить любые свои желания, ведь в его распоряжении неограниченные средства. Он заходит в фешенебельные магазины и покупает все вещи, какие ему только приглянутся, – отчего не доставить ему радость приобретения, радость обладания? Он сидит в первоклассном ресторане, вкушая изысканные блюда и попивая благородное вино, а перед ним сидит девушка его мечты. Ты только представь себе это зрелище, Том. Она прекрасна, как мадонна, и в то же время – воплощение всех женских совершенств, на ней вечерний туалет-мечта, она купается в лучах розового света, и глаза ее обещают ему блаженство. Нет, Том, ты пойми меня правильно, – сказал он, бросив на Томаса доверчивый темный взгляд из-под роговых очков, – не надо воспринимать это как кощунство. Но, спрашивается, зачем превращать небеса в скучное место, где праведники знай себе слоняются в длинных белых одеждах, размахивают пальмовыми ветвями и поют аллилуйю, зачем отвергать многоцветье и праздник, все то, что связано с отношениями полов? Неужели все плотское надо отдать на откуп преисподней? Там есть котлы с кипящей смолой и раскаленные щипцы, там корчится в страшных муках плоть, так отчего терзаниям плоти не должно противостоять блаженство плоти? Ведь сказано же в Писании, что мы воскреснем во плоти. Ты усмехаешься, Том. Дескать, если довести эту мысль до логического конца, то обывательские небеса обернутся адом. Но кто сказал, что при восхождении по небесной лестнице человек не проходит несколько ступеней? В Писании говорится: «В доме Отца Моего обителей много». Так отчего же не быть и обители для нищих духом? Отчего не допустить, что небесные мечтания обыкновенного человека содержат в себе долю правды, ту долю, которая доступна его пониманию? Кто сказал, что он не будет вознесен в более высокую, духовную сферу, после того как пресытится материей с ее вещественными благами и в полной мере изведает тщету вещей? Ведь все в воле Божьей, разве не так?… Ну возьми меня, я старый больной человек, – тут он широко раскинул руки, словно обнимая весь дом, – вещными ценностями я сыт по горло, моя мечта – это келья с кроватью и столом, но и я не рискнул бы утверждать, что обыкновенный простой человек, перейдя в мир иной, не будет окружен всеми теми бесчисленными вещами, о которых он напрасно мечтал в этом мире. Возможно, ему просто необходимо побыть их владельцем, прежде чем он окажется способным к постижению чего-то более возвышенного. Церковь сулит ему блаженство, если он будет следовать ее заповедям, но она не способна дать ему ясное представление о том, в чем же заключается состояние блаженства. Фанатики из Внутренней Миссии грозят ему костром и геенной, дурацкие секты со всего света, как воронье, рвут на части его грешную душу, а теологи высокопарно разглагольствуют о духовных материях, лежащих далеко за пределами его разумения. В действительности он только нас и дожидается. Не в том смысле, что мы выступим в поддержку какой-то новой секты, Боже упаси, мы будем всегда опираться на официальное христианство, но это должно быть христианство, понятное обыкновенному человеку. Христианство из плоти и крови. Ты усмехаешься, Том, хочешь сказать, дескать, есть предел тому, во что можно заставить обывателя поверить. А я тебе ручаюсь, что он поверит во все что угодно. Это урок, преподанный нам Гитлером, это урок, преподанный войной. И раз человека все равно оболванивают, так уж лучше пусть это будет легкое и безболезненное оболванивание, которое всем нам только во благо. Церкви сейчас пустуют, а мы их снова заполним людьми. Мы используем волну религиозного подъема, которого следует ожидать после войны, мы позаботимся о массовых встречах прихожан с проповедниками, похожими на нормальных людей и умеющими просто и доходчиво говорить о воскресении плоти, мы будем оказывать им всяческое содействие с помощью прессы, радио и кино, мы обеспечим гигантских размеров рекламные объявления во всех популярных газетах, которым поэтому будет выгодно поддерживать наше дело. Ты усмехаешься, думаешь, это неосуществимо? Я тебе гарантирую, что это осуществимо. Оркестр уже настроил инструменты, он ждет лишь взмаха дирижерской палочки. Разумеется, в одиночку нам с задачей не справиться, но это – как снежный ком: стоит нам его слепить, стоит ему только покатиться, как все силы, стоящие на страже общественных устоев, ринутся его подталкивать. Нам не понадобится даже ни к кому обращаться, не понадобится ни с кем вступать в контакт, это произойдет само собой, автоматически. Все можно сделать с помощью пропаганды, это продемонстрировал нам Гитлер, это продемонстрировала война, даже самая черная ложь в конце концов становится правдой, если выкрикивать ее достаточно громко и повторять достаточно часто. Вещам присуща внутренняя логика, раз машина существует, она требует применения. Так отчего не применить ее для пропаганды такой религиозной веры, какая действительно нужна человеку? И отчего не увязать пропаганду загробной жизни плоти с рекламой всех тех вещей, которые имеют к плоти непосредственное отношение? В нашей власти добиться того, чтобы человек, образно говоря, брал с собой вещи в могилу, – впрочем, почему бы и не в буквальном смысле, лишь бы это по-прежнему называлось христианством. Чем прочнее мы сумеем укоренить в людях веру в значение вещей, тем лучше. Напрасно ты усмехаешься, Том, я тебе гарантирую, что это осуществимо; в противном случае за дело возьмутся другие и используют машину для гораздо более ужасных целей. Но мы будем учиться на опыте и двигаться вперед осторожно, для начала совсем медленно, обыкновенный человек не должен замечать никаких существенных перемен. Вера в загробную жизнь плоти мало-помалу войдет ему самому в плоть и кровь, незаметно проникнет в привычный для него быт, в привычную жизнь, в привычное сознание. Ведь в основе всего лежат просто-напросто привычки, уж на это-то мы насмотрелись. Под конец эта вера станет необходима ему, как воздух, превратится в самоочевидную истину, не вызывающую более ни малейшего сомнения. Я тебя все еще не убедил? Не убедил, я же вижу, о чем ты думаешь: вера укрепляется лишь в противоборстве, никакая вера не может жить без борьбы. Но и это тоже предусмотрено. Антихрист у нас как был, так и есть. Страх как был, так и есть в этом мире. Ибо не следует забывать…
27
Я позвоню господину Мантойфелю, он мой близкий друг. Ах, вы не знаете Мантойфеля? Так вы с ним познакомитесь! Что, вы смеетесь? Скоро вы перестанете смеяться! (нем.)
28
Ловкость рук и никакого мошенства (букв.: Никакого колдовства, одна только ловкость) (нем.) – старинная формула бродячих немецких фокусников.