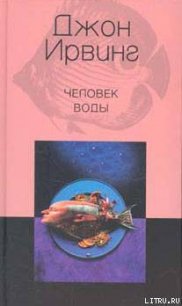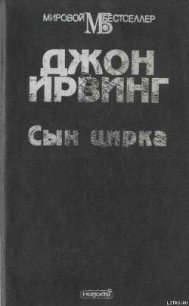В одном лице (ЛП) - Ирвинг Джон (книги онлайн полностью .txt) 📗
— Мне правда помог наш разговор, — сказал я миссис Хедли; она посторонилась, уступая мне дорогу к двери кабинета. Я боялся, что она схватит меня за плечи или даже снова притянет меня к своей жесткой груди, и я не смогу сдержаться и начну обнимать ее — или даже целовать, — хотя для этого мне пришлось бы встать на цыпочки. Но Марта Хедли не притронулась ко мне; она просто стояла рядом.
— Билли, с твоим голосом все в порядке, я не нашла у тебя никаких проблем с языком или нёбом, — сказала она. Я и забыл, что она заглядывала мне в рот на самом первом нашем занятии.
Тогда она попросила меня дотронуться языком до нёба, потом придержала кончик языка ватной палочкой, а второй палочкой в это время прощупала под языком, очевидно, в поисках чего-то, чего там не оказалось. (Я смутился, потому что эта возня у меня во рту вызвала у меня эрекцию — еще одно свидетельство «инфантильных сексуальных наклонностей», по выражению доктора Грау.)
— Не хочу говорить плохо о мертвых, — сказала мне на прощание миссис Хедли, — но надеюсь, Билли, ты понимаешь, что покойный доктор Грау и наш единственный оставшийся в живых специалист по медицине — то есть доктор Харлоу — полные кретины.
— Ричард тоже так говорит, — сообщил я ей.
— Слушай Ричарда, — сказала миссис Хедли. — Он славный парень.
Лишь годы спустя мне в голову пришла мысль: в том маленьком, далеко не элитном интернате уже видны были черты взрослого мира — там были по-настоящему добрые и чуткие взрослые, которые старались сделать взрослый мир более понятным и сносным для молодых людей, и были заплесневелые радетели нравственности (вроде доктора Грау, доктора Харлоу и им подобных) и неизлечимые гомофобы, которых породили люди их поколения и склада.
— Как на самом деле умер доктор Грау? — спросил я миссис Хедли.
История, которую мы услышали от доктора Харлоу на утреннем собрании, заключалась в том, что зимней ночью Грау поскользнулся и упал во дворе школы. Дорожки обледенели; вероятно, старый австриец ударился головой. Доктор Харлоу не сказал нам напрямую, что герр доктор Грау просто-напросто замерз насмерть — кажется, он употребил слово «гипотермия».
Утром тело обнаружили дежурные по кухне. Один из них говорил, что лицо Грау было белым как снег, другой утверждал, что старый австриец лежал с открытыми глазами, но третий возражал, что глаза были закрыты; однако все они соглашались, что тирольская шляпа доктора Грау (с засаленным фазаньим пером) была найдена на некотором расстоянии от тела.
— Грау был пьян, — сказала мне Марта Хедли. — В одном из общежитий у преподавателей была вечеринка. Возможно, Грау действительно поскользнулся и упал — и, вероятно, ударился головой, но он точно был пьян. Он пролежал в снегу без сознания всю ночь! Он замерз.
Доктор Грау, как и значительная часть преподавателей Фейворит-Ривер, выбрал работу в академии из-за лыжного курорта по соседству, но старик Грау не катался на лыжах уже многие годы. Доктор Грау был ужасно толстым; он утверждал, что все еще прекрасно держится на лыжах, но признавал, что, упав, уже не сможет подняться — не сняв предварительно лыжи. (Я представлял, как Грау лежит на склоне, дрыгая ногами, чтобы освободиться от креплений, и вопит про «инфантильные сексуальные наклонности» на английском и немецком языках.)
Я выбрал немецкий в качестве второго языка, но только после того, как меня заверили, что в академии имеется еще три преподавателя немецкого; мне не пришлось учиться у герра доктора Грау. Другие преподаватели немецкого также были австрийцами — и двое из них тоже обожали лыжный спорт. Моя любимая преподавательница, фройляйн Бауэр, была единственной, кто не катался на лыжах.
Выходя из кабинета миссис Хедли, я внезапно вспомнил, что говорила фройляйн Бауэр о моем немецком; я делал множество грамматических ошибок, и порядок слов доводил меня до бешенства, но произношение у меня было идеальное. Однако когда я сообщил об этом Марте Хедли, она не нашла это особенно интересным — если вообще стоящим внимания.
— Дело в психологии, Билли. Ты можешь сказать что угодно, в том смысле, что физически ты можешь выговорить любое слово. Но либо ты не можешь произносить слова, которые как-то в тебе отзываются, либо…
Я прервал ее:
— Отзываются в сексуальном смысле, вы имеете в виду, — сказал я.
— Возможно, — сказала миссис Хедли и пожала плечами. Похоже, ее не особенно интересовала сексуальная подоплека моих проблем с произношением, как будто рассуждения о сексе (любого рода) относились к столь же малоинтересным темам, как и мое великолепное немецкое произношение. Конечно же, я говорил по-немецки с австрийским акцентом.
— Я думаю, ты так же злишься на свою мать, как она на тебя, — сказала мне Марта Хедли. — Порой мне кажется, Билли, что ты слишком рассержен, чтобы говорить.
— А-а.
Я услышал чьи-то шаги на лестнице. Это был Аткинс, все еще не сводивший глаз с часов миссис Хедли; удивительно, как он не споткнулся о ступеньку.
— Тридцать минут еще не прошло, — доложил Аткинс.
— Я ухожу, можешь войти, — сказал я ему, но Аткинс застыл как вкопанный, не дойдя до площадки третьего этажа. Спускаясь по лестнице, я прошел мимо него.
Лестничная клетка была широкой; я подходил уже к первому этажу, когда услышал, как миссис Хедли говорит ему:
— Заходи, пожалуйста.
— Но еще не прошло тридцать минут. Еще не… — Аткинс не стал заканчивать предложение (или не мог его закончить).
— Еще не что? — услышал я вопрос Марты Хедли. Помню, как я замер на лестнице. — Я знаю, ты можешь сказать, — ласково сказала она ему. — Ты ведь можешь произнести отдельно только первый слог, правда?
— Еще не… вре, — выдавил Аткинс.
— А теперь скажи «мя» — как будто кошке на хвост наступили, — велела ему миссис Хедли.
— Не могу! — выпалил Аткинс.
— Заходи, пожалуйста, — повторила миссис Хедли.
— Еще не вре — мя-я! — вымученно промямлил Аткинс.
— Хорошо — по крайней мере, лучше, чем было. А теперь, пожалуйста, входи, — сказала ему Марта Хедли, а я спустился по лестнице и вышел из здания, по пути улавливая обрывки песен, голоса хористов, отрывок пьесы для струнных на втором этаже и затем (на первом) очередные экзерсисы на фортепьяно. Но мои мысли крутились вокруг того, какой же недотепа и болван этот Аткинс — не может произнести слово «время». Вот ведь балбес!
Я уже наполовину пересек двор, где умер Грау, когда мне пришло в голову, что ненависть к гомосексуалам полностью гармонирует с моими мыслями. Я не мог выговорить «пенисы» и, однако, без сомнений ставил себя выше парня, который не мог произнести «время».
Помню, как я подумал, что всю оставшуюся жизнь мне нужно будет искать таких людей, как Марта Хедли, и окружать себя ими, но всегда будут и другие люди, которые будут ненавидеть и оскорблять меня — или даже пытаться нанести мне физический вред. Эта мысль была такой же бодрящей, как морозный воздух, убивший доктора Грау. Единственная беседа с сочувствующей мне учительницей музыки дала мне немало пищи для размышлений — вдобавок к непростому осознанию, что миссис Хедли — властная женщина и что-то в ее доминантности привлекает меня сексуально. Или же в этой доминантности было что-то непривлекательное? (Только тогда меня осенило, что, может быть, я сам хочу стать таким, как миссис Хедли — в сексуальном плане, — а не быть с ней.)
Может быть, Марта Хедли была хиппи, опередившей свое время; в шестидесятом году слово «хиппи» еще не употребляли. В то время я практически не слышал и слова «гей»; в академии Фейворит-Ривер оно не было популярным. Может, для нашей школы «гей» звучало слишком уж дружелюбно — или по крайней мере слишком нейтрально для всех этих гомоненавистников. Конечно, я знал, что значит это слово, просто в моем узком кругу общения его редко произносили, — но в своей сексуальной наивности я не особенно размышлял над тем, что в недостижимом, как мне казалось, мире гомосексуальности означают слова «доминантный» и «субмиссивный».