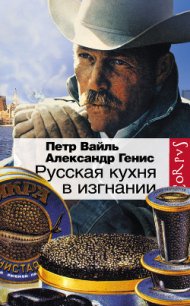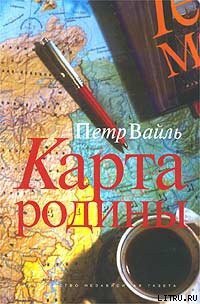Родная Речь. Уроки Изящной Словесности - Вайль Петр (читаем книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Некрасов пришел в литературу как пушкинский эпигон. К его кончине русская поэзия уже была переполнена эпигонами самого Некрасова.
То, что он сумел переубедить русскую музу, поражало еще современников. Все они, с обидным для поэта изумлением, отмечали гигантское воздействие Некрасова на общество, не забывая при этом отзыва Белинского: «Что за топор его талант!»
Впрочем, нельзя было не преклоняться перед мужеством Некрасова, который задался целью спасти литературу от железной хватки Пушкина, вывести поэзию из умертвляющего обаяния пушкинского совершенства.
Сама мысль бороться с Пушкиным на его территории поражает своей смелостью. Наверное, проще было бы соперничать с ним в прозе. Но как раз проза Некрасову, автору сотен прозаических страниц, не давалась. Может быть, потому, что и тут его опередили (Гоголь). Как грубо сказал по этому поводу Писарев, «если Некрасов может высказаться только в стихах, пусть пишет стихи».
В гражданскую поэзию, где его ждал первый успех, Некрасова толкала художественная необходимость. Социальная сфера оставляла еще надежду найти нетронутые Золотым веком русской поэзии ареалы.
В программном стихотворении «Поэт и гражданин» Некрасов напрямую размежевывается с предшественниками. В произведении, написанном в пику пушкинскому «Разговору книгопродавца с поэтом», диалог — риторическая условность, в которую облачен авторский манифест. Оба участника диалога спорят не о стихах, а о жизненной программе. Речь Гражданина — зарифмованный лозунг, призыв к действию, на который Поэту нечего возразить, кроме ссылки на свою лень (скрытый выпад против античной позы Пушкина, который так часто развивал тезис «праздность — сестра свободы»).
Поэт у Некрасова и не сомневается, кто прав в этом несостоявшемся споре. Тем не менее, заказчиком, просителем все же выступает Гражданин. Точно так же, как у Пушкина — Книгопродавец. Грандиозное различие — в том, что они предлагают поэту.
У Пушкина поэт хочет обменять (продать) свои стихи на свободу (деньги), с чем и соглашается его оппонент: «Наш век — торгаш, в сей век железный Без денег и свободы нет». На этом они и поладили. Поэт даже переходит на язык Книгопродавца — прозу: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».
У Некрасова свободу заменяет долг:
Не следует придавать особого значения тому, в чем именно состоит долг поэта — это уже мелочи. Поэтому в соседних строках Гражданин сам себе противоречит, требуя от поэта не столько любви, сколько крови:
Важно, что поэзия Некрасова, выскользнув из объятий ветреной музы, стала служанкой некоего Дела.
Можно было бы и не замечать этого стихотворения Некрасова, сославшись, например, на мнение современника (Дружинина), который писал, что оно «не стоит и трех копеек серебром», если бы здесь не вскрывалось новое, прагматичное отношение к литературе. Впрочем, это была не столько новация, сколько возрождение просветительской концепции литературы как рычага, которую, казалось, изничтожил романтизм и сам Пушкин. Поэт по Некрасову не рождался от «звуков сладких и молитв», он опять, как в классицизме, составлялся из специальных компонентов по определенным рецептам. Поэзия, в том числе и самого Некрасова, выполняла задачи, поставленные поэтом, существовала по программе.
Помня о том, на кого он восстал, Некрасов как бы воплотил в жизни конфликт Евгения с Медным всадником. Все его гражданские стихи — это пылкое «ужо тебе!», обращенное к Пушкину. Поэтому у Некрасова всегда есть незримый персонаж, эстетическая тень, на которую он нападает и от которой защищается. Его гражданская лирика диалогична по самой своей природе. Она невозможна без слушателя, без читателя, без врага.
Полемичность Некрасова — от авторской неуверенности. Он всегда сомневался в правильности выбранного им пути. Призрак поэтического несовершенства преследовал Некрасова до самых «последних песен». Не поэтому ли оппоненты его лирического героя ведут себя совершенно неожиданно? Их аргументы лежат не столько в социальной, сколько в эстетической сфере. Например, генерал из «Железной дороги» противопоставляет некрасовским героям-крестьянам Аполлона Бельведерского. Вельможа из «Размышлений у парадного подъезда», чья «завидная жизнь» состоит из «волокитства, обжорства, игры», умирает почему-то «под пленительным небом Сицилии» (кончина, достойная какого-нибудь Сенеки, а не русского самодура).
Во всем этом слышны отклики не политической, а литературной борьбы, война с апологетами чистого искусства. Некрасов сводит с ними счеты, то обряжая Пушкина в мундир вельможи (вот, к чему приводит свобода от долга), то пародируя (поэма «Саша») «Евгения Онегина».
Сам Некрасов мучительно ощущал ограниченную природу своего творчества. «Замолкни, Муза мести и печали!», — писал он, призывая взамен «волшебный луч любви и возрожденья». Но если первая строка стала стандартным определением некрасовской поэзии, то вторая к ней не имеет отношения.
Сегодня гражданская лирика Некрасова вызывает недоумение в первую очередь оттого, что непонятно, почему она — лирика. Не случайно именно эти стихи так полюбила школа. И некрасовские обличения, и его призывы обладают афористической прямолинейностью. Это — достижение фельетонной эпохи, наследие бурной газетной жизни, которое по недоразумению приняли за лирику и которое нашло столько подражателей в XX веке — от Демьяна Бедного до Александра Твардовского, ставшего как бы реинкарнацией Некрасова в советскую эпоху.
Если Некрасов и был лириком, то лишь тогда, когда в стихи не вмешивалось его ораторское «я». Например, в этом описании военного парада:
Если из этих строк убрать неуместные «жалкие лица», то сумеречный городской пейзаж, любимая символистами ведута (так в тексте — ocr), получится не хуже, чем у Блока.
Ни сам Некрасов, ни коллеги-современники не заблуждались насчет сиюминутной ценности его обличительных стихов. Ценили Некрасова за другую, «народную», сторону упомянутого выше треугольника.
Гражданская поэзия Некрасова за редкими исключениями эксплуатировала прежние достижения русской поэзии. Она насквозь эклектична. В ней, часто пародийно, перемешались и Крылов, и Пушкин, и Лермонтов. Отсюда возникает ощущение коллективного авторства — как будто за Некрасова писала эпоха. В определенном смысле, это и верно.
Но великий труженик Некрасов искал и своего слова. Чтобы стать поэтом, ему нужна была собственная поэтика.
Некрасов, как потом футуристы, остро осознавал исчерпанность традиционного поэтического языка. Он страдал от инерции пушкинского штампа. Уйти от вершин поэтического Олимпа можно было только вниз, в народ.
Мысль писать «по-народному» давала Некрасову шанс открыть новую страницу в русской литературе. Наверное, поэтому его так привлекал гениальный опыт Роберта Бернса, которого Некрасов хотел переводить по подстрочнику, обещанному ему Тургеневым.