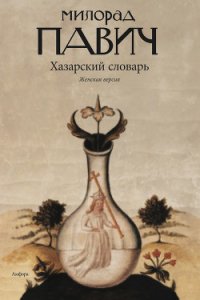Пейзаж, нарисованный чаем - Павич Милорад (читать хорошую книгу txt) 📗
— То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле — январь.
Тогда она его не поняла, но через несколько месяцев и ей стало ясно, что она беременна.
Здесь следует сказать несколько слов об Александре Пфистере, который родится от их брака. В семействе Ризнич его ждали с нетерпением, как единственного наследника. Но он все никак не появлялся. Родные с обеих сторон ждали Александра, но вместо него на свет появилась племянница Амалии Анна; потом вместо Александра родилась сестра Анны, Милена, и только вслед за ними — Александр. Его имя появилось за три года до него самого, или же за пять лет до того, как Амалия встретила Пфистера, и имя навсегда осталось старше самого мальчика. Задолго до его рождения о нем уже говорили, во здравие его украдкой заказывались молебны в венских и пештских церквах, были уже определены профессия будущего наследника рода, гимназия, которую он будет посещать, его гувернер, француз с усами в два ряда, ему уже были сшиты матросские костюмчики для воскресных прогулок и куплены золотые ложки, так, точно он уже сидит на своем месте, заранее приготовленном за столом у Ризничей в Пеште или за другим, в Вене, в столовой дома Пфистеров.
Однажды весенним утром, как раз в те часы, когда Ризничи переходили с русского языка на греческий, родился маленький Александр Пфистер, красивый, крупный ребенок. Он сразу закричал басом во все горло, причем стало ясно, что он родился с зубками. Через три недели после крещения в венской греческой церкви он начал говорить. На третьем году жизни он уже свободно оперировал пятизначными цифрами, на четвертом, к всеобщему изумлению, выяснилось, что мальчик умеет играть на флейте и свободно говорит по-польски, и мать заметила в его кудрях первые седые волосы. В пять лет Александр Пфистер начал бриться. Он вытянулся и стал похож на юношу. Окружающие заглядывались на красавца с золотым колечком в ухе и прочили за него своих Незамужних дочерей. О нем бурно заговорили, точно У всех вдруг развязались языки. Среди прочих выдумок, распространяемых по преимуществу служанками, особое внимание привлекала малопристойная легенда о преждевременной и необычайно сильно проявившейся половой зрелости мальчика. Рассказывали даже, что у него есть сынок от бывшей кормилицы, который всего на год моложе отца, но эти слухи были преувеличены. В сущности, сын госпожи Амалии не казался странным; те, кто не знал его истории и его подлинного возраста, не могли заметить ничего необычного ни на его красивом лице, ни в его обходительном поведении. И только мать повторяла, как безумная:
— Красота — это болезнь…
Но ведь неделя, начавшись, не останавливается на вторнике. В шесть лет Александр Пфистер поседел и стал седым близнецом своего еще не успевшего поседеть отца (которому тогда исполнилось двадцать пять лет); в конце того же года мальчик стал съеживаться и стареть, как головка сыра, а в семь лет он умер. Это случилось в ту осень, когда по всей территории от Тисы до Токая погибли виноградники, и легенда гласит, что в тот день во всей Бачке не было сказано более пяти слов… Семейство Ризничей эта смерть снова собрала вместе, хотя и ненадолго, а семью Пфистер разбила навсегда.
— Боль точит человека, как мысли, — заявила госпожа Амалия, облачаясь в траур, и немедля развелась с мужем. Поскольку Пфистер разорился еще до женитьбы, работая над проектом дирижабля, после развода он растворился в нищете, оставив на память жене свои золотые часы, а себе взяв те серебряные, что отмеряли время госпожи Амалии. Она же после похорон срочно уехала к родителям в Пешт. Сидя у них в столовой, она перебирала свои каменные пуговки и в упор смотрела на мать и на отца.
— Это твой муж и ты передали мне какую-то наследственную болезнь!
— Наверное, все-таки твой отец, а не мой муж?
— Не я себе выбирала отца, а ты себе мужа…
— Тебе дай волю, ты бы и мать сама выбирала, а не только отца.
— Да уж конечно, тебя бы не выбрала!
Так они и расстались. Оставшись опять одна, госпожа Амалия положила в сундуки лаванду, рубашки переложила ореховым листом, парики — кукушкиными слезками, а перчатки базиликой, в подолы одежды зашила вербену и вернулась к своим странствиям, к своим синего, удивительно красивого темного цвета платьям. На груди у нее всегда висел медальон с портретом покойного Александра Пфистера, который на фотографии мог сойти за ее покровителя или любовника, но не сына.
Она снова ездила по ресторанам в поисках острых вкусовых ощущений, но с годами и это занятие утрачивало для нее свою прелесть.
Блюда, которые ей случалось пробовать в молодости, отличались от тех же, испробованных теперь, не меньше, чем два различных кушанья. И так же, как трава не растет в тени грецкого ореха, руки ее перестали отбрасывать тень: они становились прозрачными. Уголки ее глаз посеребрились, она мало говорила, при еде смотрела на кончик ножа; вместо того чтобы пить, она целовалась со стаканом или же грызла мясо прямо из тарелки, вместо того чтобы кусать любовника, которого у нее не было. В один прекрасный День, глядя, как всегда, на портрет в своем медальоне, госпожа Амалия решила что-нибудь предпринять, чтобы сохранить хоть память о своем ребенке. Она пригласила одного берлинского адвоката (ибо в тот день она оказалась в Берлине), дала ему портрет и попросила опубликовать дагерротип: Амалия Ризнич решили усыновить молодого человека, который окажется похожим на ее покойного сына. Дагерротип был помещен во французских и немецких газетах, и в адрес адвоката стали поступать предложения. Адвокат отобрал семь-восемь фотографий, похожих на портрет из медальона госпожи Ризнич. Особым сходством с оригиналом отличался один человек с такой же седой шевелюрой, какая была у мальчика; Амалия сравнила изображения и решила усыновить седого мужчину, на которого обратил ее внимание адвокат. Невозможно установить, как и когда она узнала, кто этот человек. Ибо ход времени вредит правде гораздо больше, чем выдумке.
Облик человека, возникшего перед нею в дверях, настолько напоминал ее сына, каким он был за год до смерти — поседевшего, но красивого, — что она просто окаменела. Она обрадовалась, точно мальчик воскрес, и долго не желала узнавать в нем своего мужа, изменившегося, постаревшего и поседевшего и потому теперь похожего на сына незадолго до его смерти. Она с восторгом усыновила его и стала к нему относиться так же, как раньше к своему мальчику, только без тени дурных предчувствий. Она вывозила его в Париж на выставки, выводила на званые обеды, восторженно щебеча:
— Голод больше всего напоминает времена года, ведь у него тоже четыре руки; есть голод русский, греческий, немецкий и, конечно же, сербский голод!
В этом состоянии постоянного восторга она начала сеять вокруг себя мелкие монеты: как она их раньше всюду находила, так теперь теряла. Весь дом был засыпан мелочью, которую она оставляла везде: в своих шляпах, в умывальниках, в ботинках…
— Какой ты красивый, как ты похож на отца, ну просто вылитый отец! — шептала она, целуя своего приемного сына. Но в одно прекрасное утро это безумие или же забвение, порожденное чрезмерностью воскресшей печали, — что бы то ни было, но оно разбилось о ее же собственное странное намерение. Если бы не оно, все шло бы по-прежнему нормально, хотя ничего нормального в этом не было и быть не могло. А именно — госпоже Амалии пришло в голову женить своего «сына», вернее, своего бывшего мужа, а ныне приемного сына.
— Пора уж, он красивый, все еще красивый, как никогда раньше, но ведь красота — болезнь; рано или поздно все кончается; он не стареет, зато я старею, я хочу еще молодой дождаться внуков; нет, нет, надо торопиться, надо его срочно женить…
Пфистер был в отчаянии. Он ощущал, как жар его трубки постепенно опускается в ладонь и как его полуседые волосы шевелятся на голове, думая, на какую сторону лечь — на черную или на белую? Наконец они твердо решились — на белую, и Пфистер впервые стал старше своего сына. Он молча терпел все прихоти госпожи Амалии до тех пор, пока она сама не нашла ему невесту в Пеште, из хорошей семьи, с большим приданым, простиравшимся от Буды до Эгры. Тут Пфистер решительно заявил, что не хочет жениться, что он любит другую, что он несчастлив в любви и что та, другая, не может ему принадлежать. Госпожа Амалия притворно разгневалась и потребовала сказать, кто же это та женщина, которая смеет отвергать юношу из семьи Ризнич, то бишь Пфистер, но он не желал отвечать. Они сидели в молчании, она смотрела, как он читает книгу, перелистывая страницы с такой быстротой, точно банкноты считает, а потом упрямо произнесла в ответ на его молчание: