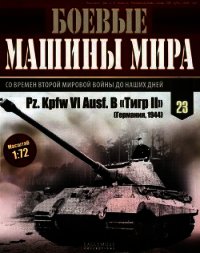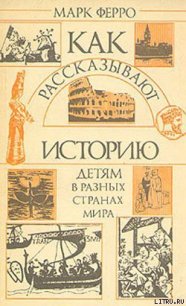Лунный тигр - Шабаева Татьяна Николаевна (читать книги .txt) 📗
Дует хамсин. Окна пришлось затворить. Горячий ветер громыхает ставнями, а мальчику-судомойке приходится подметать пол в холле по три раза на дню.
Карта на стене в комнате прессы утыкана флажками: красными, зелеными, желтыми, синими, коричневыми, белыми. Контуры ландшафта пестрят бригадами и дивизиями. Указка пресс-атташе движется между ними, приводя все к простому и изящному знаменателю. Грохот, дым, духота, пыль, плоть, кровь и железо остались за скобками, все так просто, что понял бы ребенок: маневры, диспозиция, фланги и захват в клещи, линии и корпуса.
поет набожная паства. Голоса женщин звучат громко, явственно как подобает их расе и классу; слышны также теноры и баритоны, уверенные, но без напора: -
А потом они заканчивают петь и молятся, молятся Царю царей. Затянутые в перчатки руки прижаты ко лбу, одно колено упирается в каменный пол; они кротко взывают к Нему, дабы Он смирил гордыню их врагов, обуздал их злонравие и привел их в смятение. Помолившись, поднимаются, украдкой одергивают складки на брюках и разглаживают шелковые юбки, и снова поют:
«Тебе надо немного развеяться, — говорит Камилла, — поезжай на несколько дней в Александрию. Ты, похоже, совсем вымоталась, у тебя все время ужасно усталый вид. Там есть такой миленький пансион у склона горы, я дам тебе адрес».
Это похоже на дорогу. Словно удаляешься от того, что было, и оно становится все менее явным, менее живым, более горьким, как память о покинутом доме. Словно лезвие ножа повернули по-другому.
Но теперь есть еще кое-что, о чем можно думать. Сначала — удивленно, потом — с тревогой, с изумлением, потом с благоговейным страхом.
«Ох, господи, — говорит Камилла, — ну, мне в самом деле казалось, что ты вроде немножко пополнела, и ты все время была такая понурая… теперь понятно… Надо же, никогда бы не подумала, что ты… Я хочу сказать, ты же не такая, как Люси Пауэрс или малышка Гамильтон, — если б они, никто бы и не удивился, но ты, Клаудия… Ну надо же, какая неудача. Как не повезло-то. Но почему ты не… ты ведь могла бы… Ты что, хочешь рожать? С ума сойти! Какая же ты храбрая!». — Она удивлена до крайности, это самая удивительная вещь, какую ей доводилось слышать в последнее время.
Лечебница окружена большим тенистым садом. Гравийные дорожки петляют между пальм — приземистых, одомашненных, с рельефными стволами — и казуарин. Ходячие пациенты также петляют, а другие — полулежат в плетеных креслах на лужайках и веранде под присмотром сиделок. Все сиделки затянуты в накрахмаленные, ослепительно белые одеяния, как монашки какого-нибудь тайного ордена. Кроме того, всех их отличает какая-то неиссякаемая бодрость. Клаудию передают на попечение веснушчатой ирландки. Хрустя накрахмаленными юбками, она ведет ее по коридорам к лифту.
— Дальше ни шагу, милая. Мы в одно мгновение доставим вас наверх и уложим в кроватку. Как вы себя чувствуете, неплохо? Сейчас не очень болит?
— Со мной все хорошо, — отвечает Клаудия, которой нехорошо. В действительности ей очень больно, и она сжимает живот в надежде, что боль отступит.
По коридору несется детский плач. Они проходят мимо двери с большим стеклянным экраном, через который видны ряды кроваток. Клаудия останавливается.
— Не сейчас, — говорит сиделка, — лучше будет, если вы ляжете в кровать. — В ее бодром голосе невольно проскальзывает тревожная нотка. — Нет, нет, все хорошо, миссис Хэмптон, через несколько месяцев мы и вашего ребеночка положим в такую кроватку.
— Мисс, — откликается Клаудия. — Не миссис.
Она смотрит через стеклянный экран. Видны только головки детей, одни с хохолком волос, другие — нет, так что они похожи на кусочки красной плоти поверх белых свертков.
— Почему все кроватки поставлены ножками в банки с водой?
— Это из-за муравьев. Если этого не делать, муравьи доберутся до деток. Такая уж это ужасная страна. Климат и насекомые — никогда ничего подобного не видела. — Сиделка берет Клаудию за руку, стараясь доверительностью победить ее беспокойство. — Вы, наверное, и не поверите, но мне рассказывали — это было еще до того, как я пришла сюда, несколько лет назад, — говорили, что одна девушка не поставила банки с водой, и одного малыша нашли мертвым. Муравьи добрались до него. Выели ему глазки. Так его и нашли: без глазок, и повсюду муравьи.
Клаудия отодвигается, замирает на мгновение, будто задумавшись, и вдруг наклоняется к ведру с песком, куда положено бросать окурки, к горлу подкатывает тошнота, и она извергает все содержимое желудка в ведро, содрогаясь, не в силах остановиться.
— У вас угроза выкидыша, голубушка, — говорит сестра. Думаю, вы это понимаете. Мы постараемся, чтобы все прошло как можно легче. — Она смотрит на Клаудию сверху вниз, лицо у нее совершенно невозмутимое, профессиональное лицо. — Думаю, — продолжает она, — что, учитывая все обстоятельства, вы сами решите, что так лучше. Скоро к вам подойдет доктор.
Клаудия лежит на спине, ноги у нее скрещены. Какое-то животное пожирает ее внутренности. Она вглядывается в стоящую рядом женщину и вдруг рывком садится на кровати…
— Нет, — шепчет она. Ей хочется кричать, но из горла вырывается хрип: — У меня не будет выкидыша. Так не будет лучше, и вы не должны были это говорить. Вы должны что-то сделать.
Брови сестры поднимаются чуть ли не до кромки ее накрахмаленного чепца.
— Боюсь, с природой в этом случае нам не тягаться, — говорит она уже не так бесстрастно.
— Так сделайте что-нибудь, черт вас возьми, — рычит Клаудия, — я хочу этого ребенка. Если вы его не спасете, я вас… я вас… — она откидывается назад, слезы щиплют глаза, — я вас убью… я убью вас, дура вы старая.
Спустя несколько часов, когда убраны тазы с водой, ведра и простыни, она вдруг сознает, что снова кричит, кричит и проклинает всех вокруг.
— Это не мальчик и не девочка, — говорит ей сестра. — Все в прошлом. И лучшее, что вы можете сделать, — обо всем забыть.
11
Плодом войны является хаос. Взять хоть неправильное словоупотребление: плод — это нормальный ботанический термин, с конкретным значением: часть растения, развивающаяся из завязи и содержащая семена. Получается, что из семян войны должна развиться другая война. На деле же война порождает стремление подсчитать все, что не поддается исчислению: ресурсы, живых и мертвых, беженцев, возвращающихся в свои дома, степень вины, наказания и, наконец, историю. Только когда все будет зафиксировано, мы наконец узнаем, как все было на самом деле.
В 1945 году я побывала в лагере для перемещенных лиц. Мне предстояло написать очерк для «Нью стейтсмен». Лагерь был где-то на германско-польской границе, в одном из тех мест Европы, где национальность не имеет значения, а ландшафт такой неопределенный и заурядный, что, кажется, не имеет лица. Вы все время находитесь словно на раскрытой ладони: ни конца ни края, только небо и горизонт. За эту землю сражались веками, ее вдоль и поперек истоптали солдатские сапоги. Когда-то здесь, наверное, были луга и хутора, коровы, цыплята и дети. После пяти лет войны вокруг лишь пустошь, а посреди лагерь: бесконечные ряды одинаковых цементных корпусов, между которыми бродят люди — бродят или же выстраиваются в очередь для очередного собеседования с очередным усталым чиновником, нагруженным ящичками с учетными карточками. Я присутствовала на одном из таких собеседований. Большинство людей были старыми — или казались старыми, их лица почти ничем не напоминали фотографии в учетных документах. Были, правда, и молодые — крестьянские девочки, угнанные в трудовое рабство, их пухлые деревенские лица выглядели серыми и изможденными, семнадцать лет превратились в сорок. До того, как они начинали говорить, ни за что нельзя было угадать, какой язык услышишь: литовский, сербскохорватский, украинский, польский, французский… Переводчики выбивались из сил. Я разговаривала со старой женщиной, полькой по национальности, но изъяснявшейся по-французски с аристократическим салонным выговором. Поношенное серое пальто, голова повязана шалью, от нее слегка пованивало, но в речи ее слышалось эхо благополучного дома, хрусталя и столового серебра, уроков музыки и гувернанток. Ее муж умер от тифа, одного сына убили нацисты, другой погиб в трудовом лагере, невестка с детьми пропали без вести. «Je suis seule aumonde, [99]- говорила она, неотрывно глядя на меня, — seule au monde…» А вокруг нас бесцельно бродили люди — или терпеливо стояли в нескончаемых очередях.
98
Один из гимнов Генри Уильямса Бейкера (1821–1877).
99
Я одна на свете (фр.).