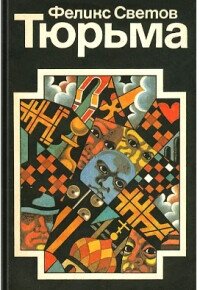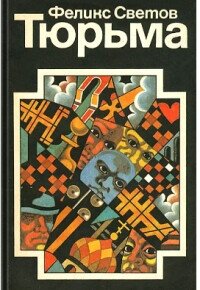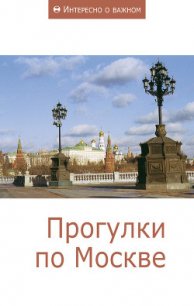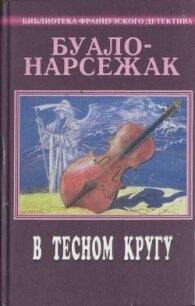Тюрьма - Светов Феликс (книги онлайн полные версии бесплатно .TXT, .FB2) 📗
— Бог простит,— говорит Серега.
— Жалко, не договорили,— говорит Боря,— так всегда, главного не успеть. На потом оставляешь, а потом не бывает…
Андрюха взваливает мне на спину матрас:
— Если на общак — покричи.
— Да не может того быть, — говорит Пахом.
— Если не увезут,— говорит Боря,— сразу переводи свою подписку, а увезут, газета будет приходить — понял?
— Ну, все?.. —слаб я, ноги дрожат. Пошел, мужиики…
Рыжий стоит у двери, смотрит на меня. Уже из коридора я еще раз оборачиваюсь на камеру…
Глава третья. ОБЩАК
1
— Вы не можете, не можете, вы не можете так со мной… Вы не можете… шепчет, бормочет он, замолкает и начинает снова: — Вы не можете так со мной…
Глаза у него закрыты, он натянул матрасовку на голову, но все видит, слышит — ничего не видя, ничего не слыша. Он напряжен до предела, все, что. осталось, стучит в нем: зрение, слух, обоняние, осязание… — что еще?
— Вы не можете, — бормочет он, — не можете так со мной…
Он зажмурил глаза, натянул матрасовку на голову, но он видит! Залитое ярким мертвенным светом пространство безобразно загромождено черными железными шконками, длинный стол посередине, глухие окна в толстой решетке густо загорожены снаружи ржавыми полосами, огромная железная дверь с наваренным изпутри нелепым наростом — что это? В углу, под ним — под ним! — омерзительный трон ватерклозета… Если б только это — шконки, решетка, безобразная дверь, омерзительный ватерклозет… Толпа! Толпа! Кривляющаяся небритыми черными рожами, ощеривающая желтые зубы под красными, синими губами, в лохмотьях — перемещается, снует, пообезьяньи прыгает со шконок, гримасничает, машет руками, крутится вокруг стола… Что они там делают?.. Очередь — очередь! — под ним, один за другим забираются на трон ватерклозета… И все в сизом дыму, слоящемся, подымающемся к потолку клубами…
Он ничего не слышит, пальцы в ушах, матрасовка, одеяло, сверху подушка… Стоны, кряхтенье, визг, жеребячий смех, брань… Разве он никогда не слышал брани? Нет, это не брань, что-то непостижимо-мерзкое, грубое, как удар дубиной, изощренное, как укол иглой, издевательское до смертной обиды, до невозможности простить… Что простить, кто не может простить — кто-то из них знает, что такое оскорбление, эти существа, изрыгающие брань, способны оскорбиться? Черный мат, извращающий смысл любого понятия, слова, мысли, образ человека… Сплошной гул, бессмысленная брань заполняет пространство и он плывет в нем вместе со своей матрасовкой, одеялом, подушкой — куда его тащит?
Что может он обонять, зарывшись носом в ворох собственных тряпок?.. Смрад заполняет пространство, в котором он плывет, он ощутил его сразу, едва успев протиснуться в дверь со своим мешком, и до сих пор не поймет — почему тут же не задохнулся? Смрад источает матрасовка, одеяло, подушка, он расстегнул ворот рубашки, уткнулся носом в грудь — тело сочится смрадом, он проник внутрь и уже сам из себя…
Что у него есть еще?.. Осязание, вспоминает он. Руки он старается держать в карманах, когда они не в ушах, боится прикоснуться хоть к чемуто, только что почувствовал пальцами брызнувшую под ними кровь раздавленного насекомого…
Что это такое, думает он, я не могу понять и определить, потому что нельзя понять, оно не поддается определению — неопределимо. У меня нет языка, слов, меня им не научили или их нет вообще на человеческом языке — слов, способных назвать. Но у меня нет и чувства, готового откликнуться — я же не вижу, не слышу, не осязаю… Но значит, и разум не может вместить, что я, тем не менее, обоняю, слышу, вижу… Но если этого нет, не потому что меня не научили, но вообще не существует на человеческом языке — нет слов, нет чувств, нет понятий, как же я, тем не менее… И откудато из глубины сознания приходят слова: когда-то, где-то, от кого-то он их услышал или прочитал, он не может вспомнить кто, где, когда, но он их знает, они ему почемуто известны, они для него’ тоже всего лишь слова, неспособные объяснить, но быть может они и вмещают своим странным смыслом, от которого он всегда отмахивался — с усмешкой, с раздражением, со злобой, вмещают то, что невозможно понять, определить, увидеть, услышать, выразить в словах на человеческом языке… Сейчас он цепляется за них — больше ничего нет в его готовом вотвот померкнуть сознании…
«Там будут вопли и скрежет зубовный…» — слышит он в себе. Это говорит не он, что-то в нем: «вопль и скрежет зубовный…» Да, думает он, все, что вокруг меня, во мне — это и есть…
— Аа!,— кричит он.— Аа!!!
Он сбрасывает одеяло, подушка летит вниз, он выпутывается из матрасовки, отпрыгивает к стене…
— Ты что орешь, падла?
Там, где только что были его ноги, торчит лохматая голова, рука с блеснувшей бритвой, дно матрасовки срезано, вторая рука с треском отдирает широкую полосу.
— Молчи, сука, пришью…
Исчезла голова, руки, матрасовка стала на треть меньше.
— Подкоротили, сосед — слышит он рядом гнусавый смешок.— Начало, еще не то будет…
Он прижался спиной к корявой «шубе» стены, над головой трещат трубки «дневного света»; на шконках у противоположной стены пестрая куча голов, ног — каша из лохмотьев, небритых существ; внизу урчит, пышет смрадом ватерклозет. Он на самом краю…
2
Как ни странно, только что пережитый ужас приводит его в чувство. Ему не хватало конкретности, услышанный им в себе «скрежет зубовный» был безысходен неопределимостью. Не надо закрывать глаза, думает он, не нужно затыкать уши. Если у них, —он глядит на пеструю кашу напротив, если у них есть языки — для брани, руки, чтоб держать бритву, ноги, чтоб… Отсюда не убежишь, не уйти, ноги тут не нужны, но они пригодятся потом… Значит, «потом» будет? А как же, думает он, мы еще побарахтаемся, отсюда можно выйти, но не ногами, не с помощью руки с бритвой. Нужна голова. Можно уйти на спец, на больничку, теперь я коечто знаю. Это у них только поганый язык и рука с бритвой, а у меня голова…
— Ты давно здесь? — спрашивает он соседа, тот занят бессмысленным делом: распускает грязную шелковую майку, наматывает нитки на свернутую в жгут газету.
— Второй месяц, — отвечает гнусавый голос, — башлей нет, никак не подгонит моя сука, я до нее доберусь, думает зарыла… У тебя табачка нет?
— Кто лежит внизу? — спрашивает он, про табачок он говорить не хочет.
— Кому положено. У кого язык длинный — лизать, кого кум кинет, у кого табачок, ларек-дачки… Покурим?
— А это кто такой — вон седая борода?
— Крыша течет, придурок, его уже учили.
Седая борода сидит на краю, ноги по-турецки, глянет тудасюда, чертит на листочке, откладывает, берет новый.
— Рисует, что ли?
— Верещагин. Ждет экспертизы на Сернах.
Запахло жженым, в окно потянул синеватый дымок.
— Горим!.. — говорит он соседу.
— Твои дрова — матрасовочка. На сегодня им хватит, завтра одеяло подкоротят.
— Как… одеяло?
— Молча, — говорит сосед: матрасовка едва прикрывает ему ноги, одеяло не шире полотенца.— Видал? Вот и у тебя так будет… через неделю.
— Зачем… им?
— Чаек пьют. Волчата шуруют по хате, им по глотку. Хрен с ним, заплатим, не здесь так с зоны.
— За что? — спрашивает он.
— За одеяло, за матрасовку. С кого возьмут? Ты ж расписывался за казенное имущество… Давай покурим.
Он достает припрятанный в мешке табак.
— Это дело… Дай-ка скручу, у тебя увидят, полезут, ты, гляжу, полный лох, а тут шакалы…
Уши затыкать бессмысленно, глаза закрывать — без толку, не спрячешься. Матрасовку он свернул, сунул под голову, прикрылся одеялом… И матраса своего нет, отобрали как вошел, зачем ему — наверху лежат вповалку, сейчас посвободней, попрыгали вниз, а когда залезут — только на боку…
Тянет дымком от окна, догорает его матрасовочка. А ведь прав был Андрей Николаевич, кабы не больничка… Каким чудом он продержался два месяца, больше? Нет, тут не чудо, посчитали, что выгодней, все он понял, а что не понял, растолковали: боялись, проболтается, ее прокол, Ольги, подвела кума. Он и сейчас вздрагивает, вспоминая белый сверкающий халат, шприц в руке, как нож… Почему сейчас выкинули? Хватит, сколько можно держать на больничке, здоров да и вообще в порядке, отмок, отдышался, а кабы не больничка, если б сразу сюда — не выдержал бы, он и сейчас не вытянет, но если б сразу, тут бы и размазали. Больше не могли держать на больничке, понятно, и на том спасибо, не в том дело, что здоров, плевать им, не нужен стал, перестали бояться, небось дальше потащили того артиста… Да какое мне дело, мое дело другое, надо головой ворочать, они кулаками, поганым языком, а я головой, сразу не могу, теряюсь, а чуть вздохнуть, собраться… Да тот же самый мир! Тут смрад, темнота, ужас, а там… Там свое и там харчат, но если я там выжил, выплыл..