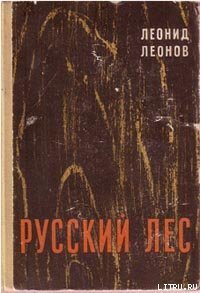Пирамида, т.2 - Леонов Леонид Максимович (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
– Эге, брат, вон ты куда... вон куда загибаешь! – на всякий случай, если бы вдруг ожил тот, за стенкой, вторил Никанор и головой качал на слишком уж откровенное обнажение наипреступнейших в ту пору корней. – И даже язык себе какой-то псалтырский изобрел!
– Ничего, мне теперь все можно, – успокоительно кивал Вадим своему гостю, коему, как праотцу поколений, естественно было в создавшихся условиях хранить себя от любой беды. – И уж позволь досказать... все одно как папироску дают иным на неполную затяжку! Так вот, не покидает меня щемящее чувство, Ник, что мертвые наши с тревогой прислушиваются сквозь толщу земную ко все приближающейся ударной бригаде наследников своих, ради кого принимали на себя безмерные труд и подвиг. Не знавшие трепета в битвах, горестно ждут они свидания с возлюбленным потомком, который если и не сделает нехорошо в их гробовом уединенье, то как минимум облепит воском чью нибудь черепушку познатней для прояснения научной проблемы, скажем, насчет иностранного влияния на куаферское искусство мономаховых времен... да ладно еще, кабы собственными руками! Так выясняется на расставанье, прав был умный барин Петр Федорович насчет единственно феодально-крепостнической мышеедины в родовой нашей шкатулке. Вот и галдят в своем трюме, хреновья, что выполняющему промфинплан нынешнему труженику ровным счетом ни к чему устарелая их, если б даже и бескорыстная брехня о некоторых тайностях национального бытия. Да и нынче, поигрывая на гармошке в участившийся перекур, терпеливый кормилец наш уже не без досады посматривает на мыслительные забавы подозрительно-крутолобых чудаков. И значит, не по логике мудрецов движутся народы по орбите времен, а по своим неведомым грозным судьбам...
– А как же иначе-то? – всерьез нахмурился Никанор. – Ему воевать послезавтра: большая война на повестке дня... Ветерок ее не чуешь на щеках?
– Что же, тем своевременней мои страхи, – недобро усмехнулся Вадим.
Беседа принимала все более острый характер, уже тем одним обременительный для Никанора, что брал на совесть тяжкий грех ее утайки от соответственных инстанций. Даже представилось на момент, как тот, цепляясь за воздух, балансирует над пропастью: было бы вовсе подло столкнуть туда дружка. Выяснилось в довершенье, что гражданские треволненья Вадима Лоскутова диктовались не только грубым развенчаньем русского мифа. Он исходил из того, что разломавшая межэтажные общественные перекрытия революция наряду с пороками сословной верхушки выявила и в низах не менее существенные, обычно не замечаемые радетелями горя народного – если не в оплату собственного своего, по сравнению с ними, материального благополучия, то из великого по соображениям гуманистическим великодушия. Оказалось, при всей святости, из простонародных, носители их такие же люди, как он сам, Лоскутов Вадим, а кое в чем суть похуже. К тому же происшедшее в те годы решительное и отовсюду вытеснение его, довольно бесполезное порой, как бы освобождало от естественных раньше, иногда даже преувеличенных обязательств в пользу меньшей братии, диктовавшихся долгом отмеченного ныне социального старшинства. Новый порядок поощрял любые классовые – и, с оговорками, беспартийные общечеловеческие побужденья, но с административной твердостью, особенно в бывшей России, подавлял порванные внутринациональные связи, пока все не срастется по-новому.
– И думать о них мне все одно, что босому ступать по осколкам битого стекла, – со сходным скрежетом в голосе обронил Вадим.
Еще получалось у него, что добровольная христианская заповедь любви к ближнему, противопоставлявшая милосердию одной стороны обездоленность другой в степени, необходимой для сострадания, теперь в условиях регламентированного гражданского общежития выглядела оскорбительной филантропией и замещалась параграфом о взаимозаинтересованности, где неписаный моральный принцип подменялся карающей статьей закона. Здесь-то и возникали у него злосчастные раздумья о прочности нравственного здания, воздвигаемого из не наблюдаемых в природе конституционно-стандартных, химически чистых элементов.
Невзирая на понятное отчуждение от подобных речей, Никанора Шамина обожгла в тот раз безысходность заключительных фраз в той, как он сказал, декларации разочарования, произнесенных через силу и не подымая глаз.
– Прости, наконец, что надоел тебе личной душевной чепухой, чем, кстати, и бывает обусловлена краткость последних писем. Испытываю необходимость пояснить ровесникам свою отлучку из рядов, куда я так просился. Вряд ли подлежит обсужденью частный случай моей поломки, но... Ты и представить себе не можешь, Ник, как с детства боялся я, что дней у меня не хватит истратить любовь мою к ней... – голосом, сорвавшимся от мальчишеской искренности и без уточненья, о ком речь, распахнулся Вадим, и собеседник, собравшийся для поддержки плеча его коснуться, даже руки протянуть не посмел. – Сколько стишков сочинял о ней от всех вас украдкой, писал и плакал, что такой бездарный зародился, писал и сжигал на спичке в сортире... Впрочем, весьма посредственные по качеству, они не заслуживают сожаленья, как и автор их. Его исчезновенье не обеднит современников даже в той степени, чтобы заметили утерю... – Он мучительно помедлил, видно, в расчете на поддержку товарища, но у того хватило сурового мужества перемолчать паузу. – Что-то не заладилось у меня с ней, переоценил свои возможности: обширна слишком, ума и рук не хватает обнять такую... А если только верить, то во что?
Несмотря на шутливый оттенок, разочарование не в одних только виршах звучало у Вадима между строк: сам сознавал безвыходность своего тупика. «И с одной стороны, знаешь ли, вроде и неприглядно в плисовых шароварах колесом ходить на потеху уважаемой эпохе, кое-что наперед угадывая, а с другой – еще грешнее грозным пробуждением пугать обездоленное большинство при самом его вступлении в сон золотой с его молочными реками, кисельными берегами и прочими земными утехами помимо сытных обеспеченных харчей». И не то чтобы опасался получить минимум раз по шее за совращение малых сих секретами национального долгожительства, а просто иссякла вдруг прежняя уверенность, будто всякое великое мечтание, в том числе ставшее содержанием людской истории, во всей его прекрасной и трагической объемности зачастую утрачивает свою привлекательность по осуществлении. Возможно, в тогдашнем смятении своем молодой человек и не удержался от нескольких резких суждений не в самый адрес России, а вскользь и не столько за измену, как за отход от исторической традиции, причем скорее в плане личного огорчения, чем неудовольствия – по самой несоизмеримости представленных сторон. Но, значит, одна постановка вопроса, не подлежащего обсужденью до поры, позволяла Никанору Шамину расценить услышанную декларацию как разрыв, если даже не отказ от родства с отечеством.
Оба с изучающим холодком посмотрели друг на друга, – никогда прежде не сказывалась так наглядно их конституционная разница – все одно как у бегунов: на большую дистанцию и маленькую.
– И не боязно тебе, что она слушает тебя сейчас, как ты ее хоронишь? – остерегающе напомнил один.
– Полагаешь, услышит и придет убить меня за боль мою о ней, – с той же жесткой приглядкой посмеялся другой в значении, с кем она останется тогда. – Я же ни претензий, ни упреков не предъявляю ей...
– За измену тебе?
Тот предпочел отмолчаться с закушенной губой:
– Напротив, только чистая благодарность ей за мечту, за науку, за трезвую ясность в отношеньях наших. И за то еще поклон земной, что раскрепостила от томительной, многих дотла сжигавшей и, отроду в ее привычках, безответной нежности к ней. Тут не пустые слова, Ник, это пена кровавая из меня пузырится. Потому что в подвздошье ранен, до самого Бога пронзен. Завещаю тебе бубен и шапку с кумачовым донцем, гуляй вприсядку на моей тризне, товарищ... Чего уставился, сложно для тебя? Постарайся, напрягись, мигни, если хоть чуточку понятно.