Двойник - Живов Вадим (версия книг txt) 📗
На этом же балконе Катя сидела одна и курила сигарету за сигаретой летним вечером пять лет назад, вскоре после августовского дефолта. Она прилетела в Москву на встречу одноклассников. Герман не понял, что ее на это подвигло, никогда она одноклассниками не интересовалась. Но возражать не стал. Накануне спросил: «Когда тебе нужна машина?» Она отказалась — холодно, почти враждебно: «За мной заедут». Ну, заедут так заедут. Герман не стал настаивать, тем более что дефолт поставил компанию на грань банкротства, и у него минуты свободной не было. Но задание своему водителю все-таки дал: «Присмотрите, чтобы все было в порядке. А то знаем мы эти сборища школьных друзей: начнется пьянка, обо всем позабудут. Если что, привезете Катю домой».
Заехали за ней на такси. Кто — Герман не увидел с балкона. Но увидел, как за такси скользнул черный «мерс». Николай Иванович был человеком надежным, так что можно было не беспокоиться. Но к ночи появилось чувство тревоги. Что это за школьные друзья? А может, не друзья, а друг? Не о нем ли она рыдала в первую брачную ночь?
Катя вернулась во втором часу ночи. На такси, как и уехала. Проводить ее до подъезда никто не вышел. Герман притворился, что спит. Она разделась и скользнула под одеяло. Герман лежал неподвижно, как каменный. А сам прислушивался к ее дыханию и принюхивался с обостренным звериным чутьем — не запутался ли в ее волосах запах мужского одеколона, запах чужого самца. Иногда казалось, что слышит, и обрывалось сердце, ухало в бездну. Потом понимал: показалось. Но заснуть так и не смог.
На рассвете поднялся, с чашкой кофе прошел на балкон, зачем-то прихватив старинную, принадлежавшую еще бабке и чудом сохранившуюся в семье Библию.
«Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные…»
Утром Катя улетела в Торонто. Герман проводил ее в Шереметьево. На обратном пути Николай Иванович сказал:
— Вы зря беспокоились, Герман Ильич. Не было никакой пьянки. Да и сборища не было. Всего человек шесть. Ужинали в «Загородном», разговаривали, танцевали. Вот и все.
А через некоторое время добавил:
— Я и не знал, что Екатерина Евгеньевна и Александр Павлович учились в одной школе.
— Какой Александр Павлович? — не понял Герман.
— Борщевский.
— Они учились на одном курсе в МГУ.
— А, тогда понятно…
По Крымскому мосту Герман пересек Москву-реку и прошел в парк. День был будний, по пустынным аллеям, присыпанным влажной осенней листвой, молодые бабушки катали коляски с детьми. В холодном воздухе неподвижно стыло колесо обозрения. Несколько старшеклассниц с бутылками пива в руках сидели на спинке скамейки, курили, переговаривались с обильными матерками, невинно и даже как-то целомудренно слетавшими с их юных губ. Площадь перед колоннадой центрального входа тоже была безлюдна, лишь слонялась между запаркованными машинами, мела юбками мокрый асфальт стайка цыганок. В репродукторах гремела, разносилась по парку попса с незатейливой мелодией и с такими же незатейливыми словами, которые забываешь раньше, чем их дослушаешь.
Герман сел на парапет подземного перехода и закурил. На этом же месте он сидел двадцать лет назад, посматривал в сторону Октябрьской площади, откуда должна была появиться Катя, и гадал, придет она на это первое их свидание или не придет. Так же стыло в воздухе колесо обозрения. Так же разносился из репродукторов старый шлягер:
Катя опоздала на сорок минут. Герман хотел уж было уйти, но тут увидел ее — в светлом, перетянутом пояском плаще, с собранными тяжелым узлом на затылке темно-русыми волосами, в туфельках на высоком каблуке. Она шла к нему, спешила к нему, боязливо обходя пьяных, презрительно отворачиваясь от приставаний. И сейчас страшно было даже подумать, что было бы, если бы он не дождался, ушел. Ничего в его жизни не было бы. Ничего. Не было бы даже самой жизни. Она кончилась бы, не начавшись.
Герман вполне отдавал себе отчет в том, что его сближение с Катей было счастливой случайностью, продиктованной зовом природы, неодолимым магнитом притягивающим молодых людей друг к другу. И лишь чудесным наитием, упавшим в душу его искрой божьей, можно было объяснить, что он, тогда еще самоуверенный нахальный юнец, сумел прозреть в ней нечто большее, чем совершенство ее юного тела в золотом ореоле закатного солнца, — родственную душу, такую же одинокую в семье, как и он сам, такую же, как у него, тоску по надежной опоре в жизни. Он защищал ее от житейских тягот, она насыщала его душу собой, как теплый дождь насыщает иссохшую землю. Ему нравилось делать ей подарки, возить ее по миру. Он как бы дарил ей пляжи Майами, карнавалы в Рио, корриду в Барселоне и рождественские ночи в Париже. Он делал для нее все, что мог, и чем больше делал, тем больше любил.
— Молодой-красивый, дай погадаю!
Герман оглянулся. Стояла пожилая цыганка, тянула к нему черную руку:
— Всю правду скажу, ничего не утаю! Что было, что будет, чем сердце успокоится!
— Не нужно, — отказался Герман. — Что было, я и так знаю. А что будет, узнаю.
— Угости закурить, молодой-красивый.
— Кури на здоровье.
Герман вытряхнул ей сигарету из пачки «Мальборо» и пошел к своему «мерседесу», причалившему к тротуару.
Сзади раздалось:
— Есть у тебя близкий человек, который тебе вредит!
Мирное настроение как ветром сдуло.
Герман круто обернулся:
— Тетка! Чтоб у тебя … на лбу вырос!
— Куда? — спросил Николай Иванович.
— На Крутицкую набережную. Где были, — хмуро распорядился
Герман.
«Хват».
«Найти…»
X
Все, что с человеком происходит в молодости, носит как бы точечный, частный характер. Прочитанная книга — это только прочитанная книга. Случайное знакомство — это только знакомство. Многое так и остается частностью, как не давшее всхода зерно, другие зерна прорастают, тянутся в будущее. И лишь с годами выясняется: то, что представлялось важным, на самом деле ничего не стоящая ерунда, засохший побег, а то, что казалось случайностью, получает продолжение и в какой-то момент становится главным содержанием жизни.

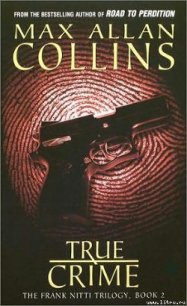

![Двойная звезда [Двойник; Дублер; Звездный двойник; Мастер перевоплощений] - Хайнлайн Роберт Энсон (читать книги онлайн полные версии .txt) 📗](/uploads/posts/books/45466/45466.jpg)
