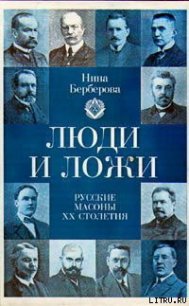Мыс Бурь - Берберова Нина Николаевна (читать полностью книгу без регистрации txt) 📗
— Так вот, — продолжала она, с удовольствием вдыхая дымок Дашиной папиросы, — говоря грубо и прямо, то, что ты делаешь, смущает меня. А вместе с тем, оно доказывает мне, что в жизни есть известная логика, и кто был A, B, C, тот станет непременно D, E, F, а потом уж, не взыщи! силою вещей — G, J. А когда он станет V, то это будет нам, идущим по другой дороге, несколько страшно… Но есть ведь еще и изнанка этого дела: ты выходишь за человека, с которым тебе будет невесело, он знает, конечно, что ты его не любишь; перед тобой каждый день будет стоять вопрос долга, ты тоже будешь мачехой. У тебя будут трудности, и ты преодолеешь их, и принесешь, несомненно, радость всем, с кем ты будешь жить. То есть ты недаром получишь сладкий кусок и перину — ты душевно их отработаешь. Вот она, изнанка дела. А значит, зачем же тужить? Надо радоваться, что все и делают кругом, и Зай погоревала всего один денек, она теперь тоже радуется. Это я пошутила.
— Значит, каждое решение — двусмысленно? — спросила Даша.
— На это я тебе не отвечу, — и Соня как-то вдруг нехорошо и вместе с тем грустно усмехнулась; вдруг пропали в голосе ее прежние ноты. — Потому что, если я тебе скажу, что всякое решение двусмысленно, ты ужасно обрадуешься и с легким сердцем пойдешь одеваться и вся оживешь таким утешением. Ты скажешь: я предамся целиком этой вкусной, веселой этой мирной и пустой жизни, потому что в этом моем решении имеется второй смысл, который все оправдывает. Если же я скажу, что никакой двусмысленности нет и есть только один-единственный, страшный и гибельный смысл всего, то ты, наверное, будешь несчастна. Сама-то ты как думаешь про это?
— Мне кажется с некоторых пор, что на все вообще бывает два ответа, и от этого-то мир и в гармонии — он уравновешен как бы двумя тяжестями. Он и сложный, и цельный, одновременно и гибок, и текуч. Очень давно мне начало казаться, что в нем много правд, это когда я почувствовала, что христианства больше нет. А раз его нет, может быть много правд. И я почувствовала себя…
— Удобно? — прервала Соня Дашу. — Но во-первых — почему ты думаешь, что христианства больше нет? А во-вторых — откуда ты взяла, что мир в гармонии?
Даша потушила окурок и не ответила. Она почувствовала, что они обе подошли в этом разговоре к чему-то огромному и важному, раз навсегда ею принятому, и поднимать и ворошить это огромное не хотелось.
— Я такого мнения, — сказала Соня после паузы, — что есть человеческие решения, в которых никакой двусмысленности нет и быть не может. Это когда производится выбор и обратного пути нет. Это когда ты целиком, вся идешь в этот выбор, в это решение, и не страхуешься, и платишь за его смысл всей своей жизнью. И перерешить ничего уже нельзя, и поправить нельзя, и компромисса нет, и выгоду извлечь (даже духовную) невозможно. И вообще, когда ты чувствуешь, что становишься при этом как кристалл, что вся ты только воля и вера.
— Какое же это решение? — спросила Даша, слегка замирая.
— Самоубийство.
— Только оно?
— Других не знаю. Во всех других остаются какие-то лазейки.
«Как это все, в сущности, чуждо мне, эти мысли о смерти, о самоубийстве, о выборе. Сказать ей о звездах? Нет, она не поймет, — думала Даша, — она не может понять, у нее мысль иначе работает. Ритм другой. Именно ритм. Смерть? Она сама должна прийти, тут никакой воли быть не может! Не должно быть!»
Соня молчала, опустив глаза.
— Откуда ты взяла, что мир в гармонии? — повторила она вдруг с насмешкой в голосе.
Даша перевела на нее глаза, с минуту они смотрели друг на друга.
— Мир в гармонии, потому что ты в гармонии, — сказала Соня уже явно издеваясь, — а ты в гармонии, потому что мир в гармонии. Так, что ли?
Опять Даша опустила глаза и не ответила. Внезапно ей показалось, что где-то пробили часы. Она спохватилась: должно быть поздно. Который час? Сколько времени она уже здесь?
— Я тебя спрашиваю… Впрочем, ты не ответишь на этот вопрос, ты на это не можешь ответить. Именно — не можешь, даже если бы хотела. Мир, скажу я тебе, совсем не в гармонии, мир расколот, разорван, раздроблен, миру выхода нет. Неужели ты не видишь, что жить людям нечем, что все потеряно, все умерло, что верить не во что, что все летит к черту? Что будет война — на десять, на двадцать лет, может быть — на пятьдесят. И никто ничего не может с этим сделать, никто помочь не может, не может примирить, оправдать. Все катится куда-то, все рушится. Неужели ты этого не чувствуешь?
«Это во все времена говорилось», — подумала Даша, но смолчала.
— А ты говоришь: мир в гармонии! Ты посмотри вокруг себя, что делается. А Россия? Ты ее чувствуешь еще? Что это такое? Что за гробовое молчание? Какое ее слово будет во всем этом?
— Читай поменьше газет, — сказала Даша холодно. — Это совершенно бесплодное занятие.
— Она же должна будет когда-нибудь сказать, наконец, свое слово! Не о правительстве я говорю, о народе. Десять тысяч верст молчания, двадцать лет молчания… Впрочем, ты права, газет читать не надо, газеты дают надежду, а надежд нет. Не стоит об этом.
Она хмуро посмотрела в направлении окна, потом перевела глаза на свой стол, на книги и бумаги, на висящую на гвозде какую-то полосатую юбку, и ей стало вдруг стыдно всех этих бедных и некрасивых предметов, пыльных книг, давно не протертого окна.
Даша стала.
— Соня, — сказала она, — я оставлю тебе шубу и два платья, которые тебе Зай переделает, она отлично сумеет это сделать. И туфли мои белые на лето ты тоже возьми. Там много всяких мелочей в комоде, которые тебе могут пригодиться.
Соня, встав тоже, застегивая лифчик на ходу, искала чулок и уже не смотрела на Дашу.
— Я тебе очень благодарна. Но мне мало что надо. Я ведь не люблю вещей. И вообще я скоро жизнь переменю, я, кажется, получу назначение в провинцию. В частном лицее, греческий и историю.
— Когда? — спросила Даша.
— Надо думать, с осени.
— А до того, Соня, чем же ты жить будешь?
— Жила же я до сих пор, — сказала Соня с раздражением в голосе и, шлепая старыми ночными туфлями, вышла из комнаты.
Глава двенадцатая
Все было, как бывает на добротной семейной фотографии, не было только мальчика, который мог бы сесть впереди, скрестив худые, длинные ноги. Тягин и Любовь Ивановна — рядом, на стульях, усталые от этого дня и грустные от предстоящей разлуки, Зай и Соня тут же в комнате, с какими-то особенными лицами, в дверях, в выжидательной позе, Моро (вещи уже были сложены в машину) и в центре всего — Даша, веселая, нарядная и праздничная, с белой камелией в петличке жакета, заколотой большой бриллиантовой булавкой.
Тягин говорил:
— Да, вот как оно. Могу сказать, до сих пор, веками, было так: были у нас друг от друга тайны, — он обращался к Моро, и тот с вежливой улыбкой слышал его, были секреты, и что мы знали друг о друге? Только всякие смешные вещи: вы о нас, что мы свечи едим и с медведями живем, мы о вас, что вы на улицах пляшете и каждый год новые женские шляпки выдумываете. И это всё, или почти. И так жили. Между прочим, была в этом и правда, потому что новые шляпки вы действительно придумываете и даже по несколько раз в год, и четырнадцатого июля в самом деле танцуете, а мы с медведями — друзья и, конечно, они нам кажутся гораздо более близкими предками, чем обезьяны. Вот только насчет свечек… Еще мы знали разное, что сами хотели обнародовать. Остальное скрывалось, аккуратно пряталось, кое в чем стыдно было признаться, кое-что и самим-то хотелось забыть. И вдруг — нате вам! Никаких больше тайн. Двадцать лет живем вместе, всё узнали друг о друге: и кухню вашу, и политику, и характер, и страсти… И вы о нас всё знаете: весь позор наш, и доблесть, и мерзость всякую о нас, и вполне приличное наше поведение иногда, и весьма неприличное. Так что мы теперь уже вполне друг друга понимаем и хорошо знакомы. И вот выходит, что в общем мы друг другу нравимся.
Моро засмеялся: