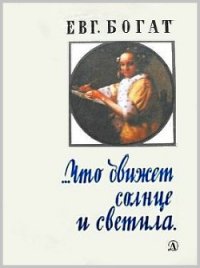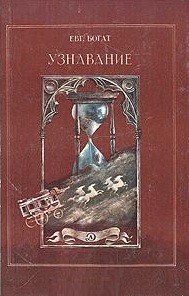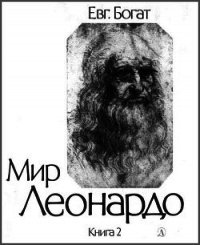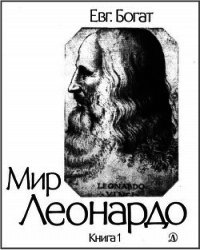Ахилл и черепаха - Богат Евгений Михайлович (читать книги онлайн полностью без регистрации .txt) 📗
— Не стоит, — ответил он, устало, медленно разгибая спину, — не стоит, Митя, сейчас. Может быть, потом, когда закончим ра-бо-ту.
Он ударил нас этими тремя тяжелыми слогами размеренно и точно, как ударяет мастер молотком, распрямляя погнутые гвозди. Но я не хотел, чтобы меня распрямили ударами, даже когда их наносит любящая рука. И, посмотрев в пергаментно-желтое, вымотанное лицо Доброхотова, неожиданно для себя самого объявил:
— Ну, тогда я покажу, что у меня вышло, нет, точнее, выходит…
И в ту же минуту мне показалось, что Витя Лидин совершил сальто в воздухе, — с такой акробатической ловкостью он очутился рядом со мной и выдохнул:
— Ну?!
Я откинул подушку, достал оттуда листы, листки, листочки, — быстро отобрал несколько фрагментов, выражающих наиболее завершенно и явственно суть моего «интеграла», и, стараясь не выдать, как я волнуюсь и боюсь суда моих товарищей, разложил это рядом с пергаментом. Саша безмолвствовал и курил, не посмотрев ни разу на стол. А Витя щурился, щурился и рассмеялся. Он рассмеялся тихо, сострадательно, доверчиво; и мне захотелось коснуться пальцем его нестриженого затылка. Теперь посмотрел на стол и Саша, охватил мощно, разом то, что на нем лежало, потом с тяжелой сосредоточенностью стал рассматривать частности, подробности, мельчайшие штрихи. Нет, он-то не рассмеялся и не улыбнулся даже. Но показалось мне, чуть подобрел — губами. Поднял руку, взъерошил мои волосы.
— Я и раньше понимал, что ты самый талантливый из нас. С третьего курса, когда мы вернулись с зарисовками из Суздаля…
— Не надо, — попросил я, — бей…
— Видишь ли, если бы архитектурно-фантастический конкурс на самый достоверный образ города возможных внеземных цивилизаций, который обещано объявить в ближайшем десятилетии, состоялся в Европе в 1268 году, то, видимо, Вилард, с твоей помощью, вышел бы победителем. Думаю, что у него не было бы соперников.
— Да, но в тринадцатом веке в Европе не объявляли архитектурно-фантастических конкурсов, — печально и тихо, как бы очнувшись от сна, отозвался Витя.
— А в тринадцатом веке в Европе были сумасшедшие дома? — жестко испытывал Виктора Доброхотов.
— В современном понимании их тогда не существовало, — начал опять нудно, как на экзамене, объяснять наш эрудит, — но при больницах в больших городах были особые отделения…
— Виларда не рискнули поместить в сумасшедший дом, — не дал я Виктору закончить исторического экскурса. — Вилард был бы опасен и там. Его убили.
— Кто же его убил? — подошел ко мне Доброхотов.
— Его убил епископ Сванг.
— Да, — угрюмо согласился Саша, — ты нашел то, что мы искали. Его убил епископ Сванг. Он выписал из Англии наемных бандитов, которые как раз перед этим, чтобы небезызвестный Шекспир не томился из-за отсутствия сюжетов, задушили в Тауэре двух юных наследников королевства. Затем, устранив Виларда, они бежали в Италию, а в горы, где таинственно исчез архитектор, выехали Шерлок Холмс, Пинкертон и любимец Честертона — патер Браун: ему-то с его философическим умом и удалось раскрыть истину, разгадав мотивы убийства. Они заключались, как явствует сегодня из детективной классики, в том, что бессмертный епископ хотел похитить четвертый лист пергамента, надеясь через каких-нибудь семьсот лет занять почетное место на архитектурном конкурсе и, сорвав порядочный куш, совершить кругосветное путешествие с Софи Лорен. Теперь, — Доброхотов уже совсем не владел собой, — убирайся отсюда ко всем чертям, хотя бы на два часа, поброди по городу, подыши дождиком! Если ты не уйдешь сам, я выброшу тебя в окно.
Я ушел. Побрел к холму. Низко горбящаяся, странная, точно во сне, улочка с домами, одряхлевшими и уютными, как истертые миллионами ног каменные ступени, вывела меня к собору. Он медленно вырастал — именно вырастал, как вырастает, заслоняя воду и землю, океанский корабль, когда выходишь на набережную из тесноты земных строений. Надо мной возвышались могучие объемы, миры из мягкого, уступчивого серого камня, который Вилард тщательно отобрал в местных горах. Формы собора были сурово-целомудренны; они уходили в туманящееся легким осенним дождиком небо и раскидисто покоились на земле. Ночью исчезало ощущение старта, о котором я уже писал, и охватывали покой и радость чудесного равновесия. «Епископ обнял меня…» — с ребяческим тщеславием отмечал в одной из заметок Вилард. Да, он не мог не обнять его, когда оторвался от чертежей и увидел в воображении объемную реальность из камня, дерева и разноцветного стекла.
Я побрел дальше и вышел дворами, в которых еще сохранились обширные, как берлоги доисторических животных, бюргерские подвалы, на залитый асфальтом, обведенный оградой полукруг, откуда открывался вид на старый город, раскинувшийся у подножия холма. Нагромождение домов с узкими лапидарными фасадами и мокрой, тускло поблескивающей черепицей было разнообразным, живописным и естественным, как нагромождение камней в разделанных тысячелетиями горах. Я уже много недель шатался по улочкам этого города: открывал, высматривал, измерял — и сейчас с высоты узнавал излюбленные камни. Это узнавание углублялось таинственностью часа, я на минуту почувствовал себя сам городом, который чернел подо мной, и уже не ощущал ни дождя, ни ветра.
Наверное, не нужно было оборачиваться. Я обернулся — мне показалось, что масса собора синхронно со мной повернулась по оси… И что-то уловимо изменилось в его космически торжественном образе. Я увидел не только величаво уравновешенную, объединяющую небо и землю композицию объемов, но и явственно почувствовал ненадежность этого равновесия, я бы даже определил мое ощущение словом «хрупкость», если бы оно не контрастировало столь парадоксально с мощью собора. Кажется; достаточно кинуть небольшой камень — и это стартующее к иным созвездиям сооружение беспомощно обмякнет обломками на земле, или наоборот: чуть подтолкнуть его ладонью — и оно без усилий от нее оторвется. Такое состояние не может быть долговременным, устойчивым. Его жизнь — миг; и соборы, видимо, потому и потрясают, что удалось этот миг заставить окаменеть — ни много ни мало — на тысячелетия!
Но с чего начинается жизнь? Не с нарушения ли соразмерности, равновесия, не с ликующей ли асимметрии? Умирает изящная, точная, как математическая формула, красота кристалла — рождается живая изменчивость белка.
Нет, я, конечно, полемически несправедлив, этот собор не мертв, как кристалл, потому что вот же, сию минуту что-то изменилось в его образе — это не собрание камней, а человеческий дух, одетый в камень, трагически ранняя попытка обрести бессмертие, которое требует жертв, ума и бесстрашия, недоступных для людей того мощного и темного века.
Я посмотрел опять на мокрую, тусклую черепицу подо мной и пошел в город по извилистой, ниспадающей, долгой, как столетия, дороге. Я миновал отлично сохранившиеся, тяжко кованные, музейно торжественные ворота и наугад, почти на ощупь углубился в путаницу улочек и дворов.
Город засыпал. Я шел по нему, как идет космонавт Брэдбери по мертвым, мерцающим камням Марса, оживляя воображением пустынную, безмолвную планету. Я шел и видел за окнами женщин в старинных уборах у колыбелей; похожих на бочонки, мужчин, похрапывающих перед сереющим жаром очагов; медленно листающих библию стариков с важными от дум, красновато-теплыми лицами, уже глубокими, но, конечно, менее духовными, чем станут они потом, через столетия, в век Рембрандта; подмастерье на углу обнимал девушку, комкал большими руками ее плечи, мял набычившимся лбом нежный чепец, и стояла она обнадеживающе и беззащитно, как будет стоять и через тысячу лет; путешественники, полумертвые от дороги, спешивались в гостиничном подворье, медленно освещалось мрачное окно, где-то горланили песни…
Я шел, облепленный этой жизнью, растирая до боли мокрое от дождя лицо, с трудом удерживаясь от желания стучать в эти окна, вторгаться в эти дома, отчаянно орудовать кочергой в гаснущих очагах.
И вот передо мной поверх домов зачернел исполинский силуэт ратуши; небо немного очистилось, и я различал даже флюгер, изображающий уютно-пузатого воина с пикой в откинутой нестрашной, упитанной руке и живые, очаровательно сегодняшние комки голубей, лепящихся на могучем карнизе. Когда я подошел к самой ратуше и поравнялся с узкими, упрятанными в ужасной толще стен окошками торгового зала и соседствующих с ним (о, милые странности средневековья!) пыточных камер, то ускорив шаг, почти побежал, чтобы не уловить стонов, которые я в эту ночь не мог не услышать. И вмиг очутился на короткой, будто бы усеченной ударом меча, улице, убегающей в новую путаницу лучей и лучиков. Это было одно из самых замечательных мест старого города — по густой насыщенности живыми, осязаемыми подробностями минувших веков. Ты шел, ощущая пальцами пластику ушедших столетий.