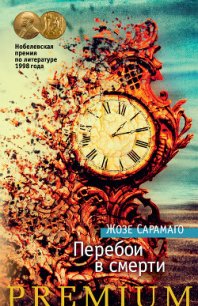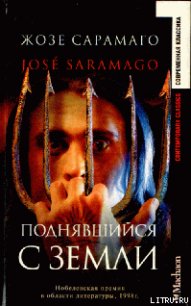Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Ответишь на всякий мой вопрос? Отвечу, сказала Мария.
С какого времени стал сниться отцу этот сон? Очень давно, много лет тому назад. Сколько именно? С тех пор, как ты родился. И каждую ночь снилось одно и то же? Каждую, но в последнее время он меня уже не будил, человек ко всему привыкает. Я родился в Вифлееме, городе иудейском?
Да. Что же случилось при рождении моем такое, что отец мой стал видеть во сне, будто убивает меня? Это было не при рождении. А когда? Несколько недель спустя. И что же произошло за это время? Царь Ирод послал избить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже. Почему? Не знаю. А отец знал? Нет. Но меня же не убили? Мы спрятались в пещере за городской чертой. То есть меня не убили, потому что не нашли? Да. А отец мой был воином? Никогда. А кто он был? Он работал на строительстве Храма. Не понимаю. Я отвечаю на твои вопросы. Если воины Ирода не увидели меня, если жили мы за городской чертой, если отец мой никогда не был воином, если ни за что не отвечал и не знал даже, по какой причине Ирод повелел уничтожить всех мальчиков в Вифлееме… Говорю тебе, не знал.
Так значит… Ничего не значит, если тебе больше не о чем меня спросить, мне больше нечего тебе ответить. Ты что-то скрываешь от меня. Иисус замолчал, чувствуя, как, водой в сухую землю, уходит из него властность, с которой говорил он, и одновременно в каком-то потаенном уголке его сознания зашевелилась некая мысль, которая, даже не успев еще принять окончательных очертаний, была гнусна и чудовищна. По склону холма перед ними проходило стадо овец с пастухом, и были они цвета земли, будто земля двигается по земле. На кротком лице Марии появилось удивленное выражение: какой знак подавали ей высокая фигура пастуха, знакомая его походка и то, что спустя столько лет в этот самый миг появился он здесь, но она пригляделась и с недоумением узнала в пастухе соседа из Назарета, такого же тощего, как и полдюжины овец, которых гнал он на выпас. А в голове Иисуса мысль тем временем обрела форму, попросилась наружу, но язык не поворачивался произнести слова, в которые она облеклась, и все же, самого себя робея, он сказал: Отец знал, что младенцев перебьют. Он не спросил, и Марии, стало быть, не было нужды отвечать. Как узнал об этом отец? — промолвил Иисус, и вот теперь это был вопрос, и Мария сказала:
Он строил Храм в Иерусалиме и слышал, как воины толковали между собой о том, что будут делать. А потом? Потом он поспешил спасать тебя. А потом? Потом подумал, что можно и не убегать, а спрятаться в пещере. А потом?
Вот и все, воины Ирода сделали то, за чем их послали, и ушли. А потом? А потом мы вернулись в Назарет. И там ему стал сниться этот сон? В первый раз он увидел его еще в пещере. Руки Иисуса взметнулись к лицу, словно он хотел разодрать щеки ногтями, из груди вырвался неутешный вопль: Отец мой истребил младенцев в Вифлееме! Ты обезумел, сын мой, это сделали воины Ирода. Нет, женщина, их убил мой отец, Иосиф, сын Илии, ибо знал о грозящей расправе, но не предупредил родителей, — и теперь, когда все слова слетели с его уст, улетела навек и надежда на утешение. Иисус бросился наземь, с плачем повторяя:
Бедные, бедные! — и даже не верится, что мальчик в тринадцать лет, в том возрасте, когда себялюбие столь понятно и простительно, так потрясен известием, которое, если принять в расчет все, что мы знаем о современном нам мире, оставило бы равнодушными почти всех. Люди, впрочем, неодинаковы, есть среди них исключения, и отраднейшее из всех — этот мальчик, так горько рыдающий из-за давней ошибки, совершенной его отцом, а быть может, по себе, если он, как нам сдается, любил своего дважды виноватого отца. Мария протянула к нему руку, хотела дотронуться до него, но он отпрянул: Не прикасайся ко мне, у меня в душе рана. Иисус, сын мой. Не называй меня сыном, и на тебе тоже лежит вина. Отроки лишены снисходительности и судят слишком строго, ибо Мария была столь же невинна, как и убиенные младенцы, за нашу сестру все решают мужчины, пришел муж и сказал: Давай уйдем отсюда, а потом: Нет, лучше спрячемся, и ничего не объяснил, и, конечно, надо было спросить: Что это за крики доносятся оттуда? Но Мария ничем не возразила сыну, хоть ей так легко было бы доказать, что ни в чем не виновата, ибо вспомнила в тот миг о распятом на кресте Иосифе, тоже убиенном безвинно, и со слезами стыда почувствовала, что любит его сейчас больше, чем любила при жизни, потому и не стала оправдываться: не все ли равно, за какую вину взыщется? И сказала только: Пойдем домой, мы уже обо всем поговорили, а сын ответил ей: Иди, я останусь.
Казалось, будто отбилась от стада овца, и пустырь стал пустыней, и даже домики, разбросанные там и сям по склону, стали похожи на огромные камни, мало-помалу врастающие в землю. Когда фигура Марии растворилась в пепельной глубине долины, Иисус, все тело которого было объято огнем и будто потело кровавым потом, издал, стоя на коленях, крик: Отец, отец, зачем оставил меня?! — ибо бедный мальчик и чувствовал себя оставленным, безнадежно брошенным, покинутым, ввергнутым в безмерную пустоту иной пустыни, где ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер, где берет свое начало дорога мертвых.
Пастух, сидящий среди своих овец и неотличимый от них, издали глядел на него.
Через два дня Иисус ушел из дому. За это время по пальцам одной руки можно было перечесть произнесенные им слова, а ночью он не смыкал глаз, ибо уснуть не мог. Ужасные картины представали ему: он видел, как воины Ирода врываются в дома, выхватывают из колыбелей младенцев и, распеленав, рубят или пронзают мечами их маленькие тела; он слышал, как заходятся в безумном крике матери, как бешеными быками ревут отцы; представлял и самого себя в пещере, помнить которую не мог, и время от времени, словно тяжелый медлительный вал, накатывало на него и с головой захлестывало необъяснимое желание умереть или, по крайней мере, не жить. Не давал ему покоя вопрос, который он так и не задал матери: сколько же младенцев перебито было в Вифлееме; ему-то казалось — великое множество, он представлял себе целую гору окровавленных и обезглавленных, точно ягнята на бойне, тел, ожидающих огня, что уничтожит их и дымом вознесет к небесам. Но, не решившись спросить об этом в должное время, в час откровения, он считал, что сейчас бестактно, если в те времена уже существовало понятие «такт», взять да и сказать матери: Знаешь, я тогда позабыл тебя спросить, сколько же этих вифлеемских сосунков отправилось на тот свет, а она ответит: Ах, сынок, да выбрось ты их из головы, десятка три, не больше, и умерли они потому, что так Богу было угодно, ибо в его воле было их от смерти избавить. Однако самого себя этим вопросом терзал он беспрестанно, глядя на братьев своих и спрашивая постоянно: Сколько? Сколько? — ибо хотел непременно знать, какое количество трупиков надо положить на другую чашу весов, чтобы уравновесить его спасенную жизнь. И наутро второго дня он сказал матери: Я ухожу, оставляю тебя и братьев, ибо нет мне покоя и нет мира в душе моей. Мария, воздев руки к небесам, заголосила: Да где же это видано, чтобы старший сын бросал свою овдовевшую мать, куда же это катится наш мир и куда, куда же ты пойдешь из отчего дома, как оставишь родную семью и как мы будем жить без тебя? Иаков всего на год младше меня, отвечал ей Иисус, он заменит тебе кормильца, как заменял я. Кормилец — это твой отец. Я не хочу о нем говорить, и вообще ни о чем не хочу говорить, благослови меня, если тебе угодно, а нет — я и так уйду. Куда же ты пойдешь?
Не знаю — может, в Иерусалим, может, в Вифлеем, погляжу на край, где родился. Но ведь там никто тебя не знает. Тем лучше, представь-ка, что сделали бы со мной, если б узнали, кто я. Замолчи, Иисус, братья твои услышат. Когда-нибудь они и так все узнают. Но ведь по всем дорогам рыщут римские солдаты, ищут мятежников Иуды, тысячи опасностей ждут тебя. Да римляне не хуже воинов некоего Ирода, помнишь такого? Они не набросятся на меня с мечами и не распнут на кресте, я ведь ни в чем не виноват и ничего дурного не совершил.