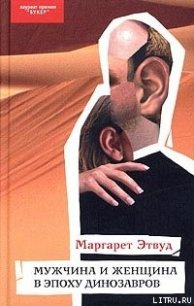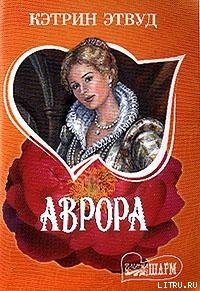Рассказ Служанки - Этвуд Маргарет (читать книги полностью без сокращений бесплатно txt) 📗
— Как думаешь, — говорит она, — Бог эти станки слышит? — Она шепчет — привычка из Центра.
В прошлом — довольно тривиальное замечание, школярские раздумья. Ныне — измена родине.
Можно заорать. Можно убежать. Можно безмолвно отвернуться, показать, что в своем присутствии я таких разговоров не потерплю. Подрыв устоев, подстрекательство, богохульство, ересь — все разом.
Закаляй себя.
— Нет, — говорю я.
Она выдыхает — длинный выдох облегчения. Мы вместе преступили незримую черту.
— Вот и я тоже, — говорит она.
— Хотя, пожалуй, вера в этом есть, — говорю я. — Как в тибетских молитвенных колесах.
— А это что?
— Я о них читала, — говорю я. — Их крутил ветер. Их больше нет.
— Как и всего прочего, — отвечает она. Лишь теперь мы отводим глаза.
— Тут безопасно? — спрашиваю я.
— По-моему, безопаснее всего. Мы как будто молимся, вот и все.
— А они?
— Они? — Гленова по-прежнему шепчет. — Снаружи всегда безопасно, микрофонов нет. Зачем здесь вообще микрофон? Они думают, никто не посмеет. Но мы долго уже тут стоим. Пошли, а то опоздаем. — Мы вместе поворачиваемся. — Не поднимай голову, когда пойдем, — говорит она, — и чуть-чуть наклонись ко мне. Тогда мне будет лучше слышно. Если кто-нибудь рядом —, молчи.
Мы идем, склонив головы, как обычно. Я так волнуюсь, что еле дышу, но иду ровно. Нельзя привлекать внимание — особенно теперь.
— Я думала, ты правоверная, — говорит Гленова.
— Я думала, ты, — отвечаю я.
— От тебя прямо несло благочестием.
— От тебя тоже. — Мне хочется смеяться, кричать, обнимать ее.
— Можешь к нам присоединиться, — говорит она.
— К нам? — Значит, бывает «к нам»; значит, есть «мы». Я знала.
— Ты сама подумай — я же не одна такая, правда? — говорит она.
Я так и думала. Но вдруг она шпионка, подсадная утка, хочет подставить меня; такова почва, на которой мы произрастаем. Нет, не верится; надежда разливается во мне, точно соки в дереве. Кровь в ране. Начало положено.
Я хочу спросить, не видела ли она Мойру, не может ли кто-нибудь выяснить, что с Люком, что с моим ребенком, даже с мамой, но время вышло; вот мы уже приближаемся к главной улице, к той, что у первой заставы. Дальше чересчур людно.
— Ни слова, — предупреждает Гленова, хотя нужды нет. — Ни в коем случае.
— Само собой, — говорю я. Кому мне рассказывать?
Мы молча идем по главной улице — мимо «Лилий», мимо «Всякой плоти». На тротуарах необычайно много людей: тепло всех выгнало на улицу. Женщины в зеленом, синем, красном, в полоску; и мужчины тоже, одни в мундирах, другие в гражданском. Солнце бесплатно, солнцем по-прежнему разрешено насладиться. Хотя никто больше не загорает — во всяком случае, на виду.
И машин больше: «бури» с шоферами и пассажирами средь подушек, за рулем авто помельче — помельче и люди.
Что-то случилось: на автомобильном мелководье суета, суматоха. Некоторые паркуются у обочины, словно пропускают кого-то. Я быстро поднимаю взгляд: сбоку черный фургон с белокрылым оком. Сирены молчат, но остальные машины все равно его сторонятся. Фургон медленно пробирается по улице, будто ищет; акула на охоте.
Я каменею, с ног до головы меня окатывает холод. Наверняка там были микрофоны, нас все-таки подслушали.
Гленова, загораживаясь рукавом, стискивает мой локоть:
— Шагай, — шепчет она. — Притворись, что не видишь.
Но тут не захочешь — увидишь. Фургон тормозит прямо перед нами. Два Ока в серых костюмах выпрыгивают из двойных задних дверей. Хватают мужчину, который идет один, мужчину с портфелем, совершенно обычного, пихают к черному боку фургона. Какой-то миг мужчина распластан по металлу, точно прилип; затем один из Очей надвигается, дергается как-то резко и грубо, и мужчина оседает обмякшим тюком тряпья. Его подхватывают и закидывают в фургон, словно мешок с почтой. Вот они оба тоже внутри, хлопают дверцы, фургон едет дальше.
Несколько секунд — и все кончено, и улица движется вновь как ни в чем не бывало.
Что я чувствую? Облегчение. Не за мной.
Глава двадцать восьмая
Дремать после обеда неохота — адреналин не дает. Я сижу на канапе, гляжу сквозь полупрозрачность занавесок. Белая ночнушка. Окно открыто, насколько оно это умеет, ветерок на солнце жарок, и белую ткань сдувает мне в лицо. Снаружи я, наверное, будто кокон, привидение, лицо в пеленах, видны лишь контуры — носа, забинтованного рта, ослепших глаз. Но мне нравится, как мягкая ткань касается кожи. Словно в облаке сидишь.
Мне выдали маленький электрический вентилятор — при такой влажности помогает. Он жужжит в углу на полу, лопасти за решеткой. Будь я Мойрой, я бы знала, как его разобрать, свести к лезвиям. Отвертки нет, но, будь я Мойрой, отвертка бы и не понадобилась. Я не Мойра.
Что бы она сказала про Командора, окажись она здесь? Наверное, не одобрила бы. Она когда-то и Люка не одобрила. Не Люка, а то, что он женат. Сказала, что я промышляю на чужой территории. Я сказала, что Люк не рыба и не золотой прииск, он человек и способен сам решить. Она сказала, что это казуистика. Я сказала, что влюблена. Она сказала, что это не повод. Мойра всегда была рациональнее меня.
У нес такой проблемы нет, сказала я, с тех пор как она решила предпочесть женщин, и, насколько я понимаю, она и глазом не моргнет, если ей приспичит украсть их или позаимствовать. Тут все иначе, сказала она, поскольку среди женщин власть сбалансирована и секс означает дележку по-братски. Если уж на то пошло, «по-братски» — это сексизм, сказала я, и вообще этот аргумент устарел. Она ответила, что я все упрощаю, а если думаю, будто аргумент устарел, значит, живу, сунув голову в песок.
Все это мы сказали, сидя у меня за кухонным столом, за кофе, тихо и напряженно: мы так спорили с тех пор, как нам было по двадцать с хвостом, — наследие колледжа. Кухня ветхой квартирки в дощатом доме у реки — трехэтажном и с шаткой наружной лестницей на задах. Я жила на втором этаже, то есть слышала шум снизу и сверху, два нежеланных стерео громыхали далеко за полночь. Студенты, я понимала. Я еще ходила на свою первую работу, где платили всего ничего; я работала на компьютере в страховой компании. И гостиницы с Люком для меня означали не просто любовь и даже не просто секс. Они означали побег от тараканов, протекающей раковины, от линолеума, что кусками отшелушивался от пола, даже от моих собственных попыток оживить квартирку, налепив плакаты по стенам и повесив призмы на окна. Цветы в горшках у меня тоже были; правда, на них вечно селились паутинные клещики, либо растительность дохла от засухи. Я удирала с Люком и ее бросала.
Есть много способов жить, сунув голову в песок, сказала я, и если Мойра считает, будто можно создать Утопию, запершись в анклаве только с женщинами, — увы, она заблуждается. Мужчины никуда не денутся, сказала я. Нельзя их просто игнорировать.
Ты еще скажи, мы все заболеем просто потому, что сифилис существует, ответила Мойра.
Ты что хочешь сказать? Что Люк — социальная болезнь? спросила я.
Она расхохоталась. Ты только посмотри, а? сказала она. Херня какая. Мы разговариваем, как твоя матушка.
Мы обе засмеялись, и когда она уходила, мы обнялись, как всегда. Однажды мы не обнимались — когда она поведала, что лесбиянка; но потом она сказала, что я ее не возбуждаю, утешила меня, и мы вернулись к объятиям. Да, мы ссорились, пререкались, обзывались, но по сути это ничего не меняло. Она была моя самая старая подруга.
И есть.
Вскоре я сняла квартирку получше и прожила там два года, пока Люк выпутывался. Платила сама, сменив работу. Работала в библиотеке — не в большой, со Смертью и Победой, а поменьше.
Я копировала книги на компьютерные диски, чтобы сэкономить на хранении и стоимости замены. Мы себя называли — дискеры. А библиотеку — дискотекой; такая у нас была шуточка. Едва книгу скопировали на диск, ее полагалось отправить в бумагорезку, но иногда я уносила их домой. Мне нравилось их щупать и разглядывать. Люк говорил, у меня мозги антиквара. Ему это нравилось — он сам любил старье.