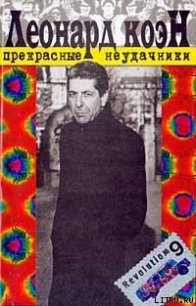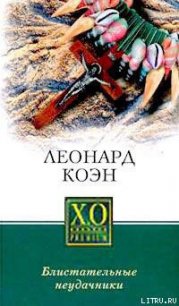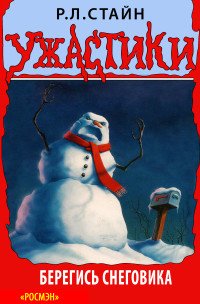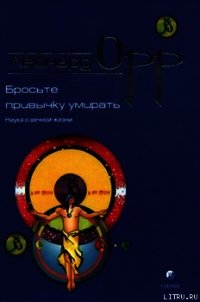Любимая игра - Коэн Леонард (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
– Я не приглашаю вас зайти, – сказала Шелл без жеманства.
– Я знаю. У нас полно времени.
– Спасибо, что это сказали. Мне понравилась наша прогулка.
Он отпустил такси и прошел сотню кварталов самостоятельно. Старание не ступать на трещины – крайняя степенью любого испытания, которое он для себя изобретал. Он окунулся в успокоение, которое означает делать, что можешь, зная это.
Шелл быстро легла в постель. Лежа в темноте, она вдруг вспомнила, что не расчесала волосы.
Бривман всегда завидовал старым художникам, у которых для служения имелись великие и признанные идеи. Тогда можно накладывать позолоту и записывать красоту. Смерть бога посреди пурпура и яркой листвы сильно отличается от обморока пьяницы в грустном кафе, неважно, что по этому поводу твердит литература андеграунда.
Он никогда не называл себя поэтом, а свою работу – поэзией. Тот факт, что строки не достают до края страницы, ничего не гарантирует. Поэзия – приговор, не профессия. Он терпеть не мог обсуждать методы стихосложения. Стихотворение – грязная, кровавая, горящая штука, которую нужно сначала схватить голыми руками. Когда-то огонь воспевал Свет, грязь – Смирение, кровь – Жертву. Сегодняшние поэты – профессиональные пожиратели огня, идущие работать по найму на любой карнавал. Огонь утихает, не сопротивляясь, не удостаивая собой никого конкретно.
Когда-то, некоторое время, он, казалось, служил чему-то, кроме себя. То были единственные стихи, которые он написал. Они были для Шелл. Он хотел вернуть ей ее тело.
Но вправду ли для нее он пишет? Ему было бы проще, если бы ей нравилось ее тело. Постель стала бы спокойнее. Поначалу это были вообще не стихи, а пропаганда. Был вынесен вердикт: поэзия. Если она и дальше будет считать свою плоть безразличным врагом, она не позволит ему смотреть на нее так, как он хочет.
Он отгибал простыню с ее тела и смотрел на нее, когда она спала. В комнате – ничего, кроме ее открытого тела. Не нужно ни с чем его сравнивать. Опуститься возле нее на колени и пальцами провести по губам, следовать каждой форме, чтобы стереть закаты, которых он не мог коснуться. Честолюбие, жажда совершенства счастливо терялись, когда он успокаивался в ней. Вот оно, величайшее совершенство. Но она должна чувствовать себя цельной. Богине не следует нервничать. Поэтому он должен писать – чтобы она была весела и спокойна. Она узнала конвенционное оружие оргазма, для женщины в нем – начало гордости и спокойствия.
Когда наконец она застенчиво обменялась с ним телом, в ней не было совершенной уверенности в том, что он не испытает отвращения. Гордон говорил, что любит ее, но от прикосновений к ней воздерживался. Пять лет. Он допустил ограниченный контакт. Не все ее тело, но пальцы одной руки могли следовать за его вороватым броском к наслаждению. От этого ее плоть умерла. Каждую ночь серела все больше.
Бривман отмел шелк, словно паутину, упавшую ей на плечи. Она издала слабый стон наслаждения и покорности, словно теперь он узнал худшее. Он положил голову ей на грудь – эта старая поза лучше говорила за него.
Она училась быстро, но не бывает женщины прекрасной настолько, чтобы не желать снова и снова слышать о своей красоте в стихах. Он был профессионал, он знал, как сконструировать любовника, который ухаживал бы за ней.
Он думал, со стихами все будет получаться. Он ни капли не презирал робота-любовника, что любую ночь превращает в праздник, а любую трапезу – в пир. Искусное, заботливо склепанное изделие – и сам Бривман не отказался бы им стать. Он одобрял нежность любовника, даже завидовал некоторым вещам, которые любовник говорил, словно тот был остряком, которого Бривман пригласил на обед.
У любовника, так хорошо спланированного, имелась собственная жизнь, и он часто опережал Бривмана. Приходил к Шелл со своим подарком, скажем, со страусиным пером, купленным в магазинчике на Второй авеню, или с чайными розами из лавок на углу Восьмой улицы. Садился за стол Шелл, они сплетничали и строили планы.
– Мне обналичили чек в супермаркете.
– Привилегии красоты. Последний высокий замок, оставшийся в бесклассовой Америке.
– Нет, они то же самое сделали для маленькой темнокожей старушки.
– Ну, значит, соседская добродетель по-прежнему существует.
– Как твоя работа?
– Мараю страницы.
Болтовня все продолжалась. Вспоминались истории про Хартфорд, каменный фонтан, летние месяцы на озере Джордж, огромные дома. Истории о Монреале, ночные поездки с Кранцем, смерть отца. И пока они жили вместе, росли их собственные истории, мифы первой встречи, первой ласки, покоя предстоящих поездок.
– Можно я тебе кое-что прочитаю?
– Твое?
– Я чужого не выношу, ты же знаешь.
Она хотела, чтобы он по-особому сел возле нее, как они любили.
– Это про меня?
– Подожди хоть, пока я эту чертовщину прочту.
Она серьезно слушала. Попросила прочесть еще раз. Она никогда не была так счастлива. Он начал тихим голосом, что вечно отрекался, прежде чем вложить смысл в слова, никогда не понуждал к реакции. Она любила в нем эту честность, эту силу, которая все делала значимым.
– О, это прекрасно, Лоренс, это в самом деле прекрасно.
– Хорошо. Этого я и хотел.
– Но оно не для меня – оно ни для кого.
– Нет, Шелл, оно для тебя.
Она припасла для него угощение – замороженную клубнику.
Бривман наблюдал, как его заместитель делает ее счастливой, а он сам все смотрел и смотрел. Однажды ночью он наблюдал, как она спит. Хотел понять, что с ней происходит. Некоторые лица во сне умирают. Размягчаются рты. Закатившиеся глаза оставляют за собой труп. Но она была цельной и прекрасной, рука поднесена ко рту и сжимает уголок простыни. С улицы послышался крик. Он подполз к окну, но ничего не увидел. Крик звучал чьей-то смертью.
Мне все равно, кого убивают, подумал он. Мне все равно, что за крестовые походы планируются в исторических кафе. Мне безразличны жизни, зверски загубленные в трущобах. Он пытался вычислить степень своего интереса к человечеству за пределами комнаты. И вот: прохладное сочувствие к женщинам, менее прекрасным, чем она, к мужчинам, менее счастливым, чем он.
Поскольку магия его не отпускала, стихи продолжались. Он не осознавал, что победил Шелл не текстом, но всем своим вниманием.
– Можно зайти?
– Нет.
– Почему?
– Я одеваюсь.