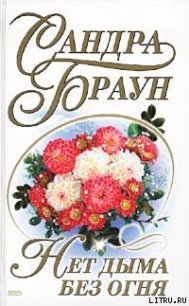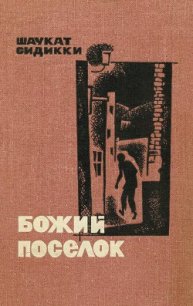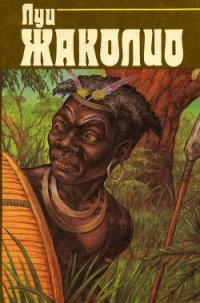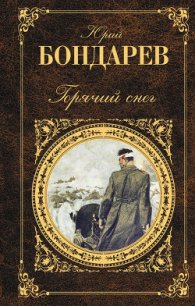Язык огня - Хейволл Гауте (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
7
Последнее, что я сделал, — соврал моему отцу. Я стоял в его комнате в доме престарелых и обещал отвезти машину домой в Клевеланн, где ждала мама. Предполагалось, что вечером, попозже, она приедет к нему и останется на ночь. Я обещал поставить машину возле старого ясеня во дворе и натянуть брезент, чтобы не нападала листва. Но ничего из этого я не сделал. Я сел за руль. И, повернув ключ в замке зажигания, выехал с парковки и уехал налево, вместо того чтобы повернуть направо. Я поехал в Кристиансанн, вместо того чтобы ехать домой в Финсланн. Я возвращался туда, где мы только что были, проехал на восток по Е18, повернул направо, проехал под высоким подвесным мостом на Вестервейен, совсем рядом с бронзовым гигантом Крагом, где мы совсем недавно сидели и смотрели на воду, а потом повернул в сторону въезда на паром, где уже стояли трейлеры, и автодома, и автомобили с прицепами-дачами, ожидая очереди на пронумерованных полосах, уходящих в море. Я въехал на терминал и купил билет на паром в Данию, который вот-вот должен был подойти, отход его по расписанию был в четверть девятого, и он должен был доставить все трейлеры и дома на колесах в Хиртсхальс в Северной Ютландии. Я въехал на паром в потоке машин, медленно вползавших в его широко раскрытую пасть. До упора набитые автомобили, в которых ехали родители с детьми, автомобили, где сидели пожилые пары, безмолвные и неподвижные. И я, двадцатилетний парень на красном пикапе 1984 года, с прилипшей к кузову старой листвой. Я ехал в медленно двигавшейся очереди и впервые в жизни ощущал, что действительно что-то совершаю, совершаю поступок, значение которого раньше или позже прояснится, я сидел за рулем и чувствовал, что мой поступок повлияет на меня, но как, пока неизвестно. Мне дали отмашку ехать внутрь парома, затем на один этаж вверх и остановили на повороте, за немецким автомобилем, там я поставил машину на ручной тормоз. Итак, я въехал на борт парома, идущего в Данию, но не имел, честно говоря, ни малейшего представления о том, что я тут буду делать или куда я еду, кроме того, что я еду за море. Я направляюсь за море. Я соврал отцу. Мама сидит дома и ждет, а я вот-вот отправлюсь в путь через Скагеррак. Я запер двери пикапа и по покрытым мягким ковром ступенькам поднялся с автомобильной палубы наверх. Здесь уже разгуливало немало народу, были пожилые люди, едущие за покупками, были молодые, ехавшие за развлечениями, и все они обходили палубу, чтобы определиться с дальнейшими планами. Я выбрал себе место в баре на верхней палубе, как ни в чем ни бывало заказал себе пол-литра пива и, получив стакан с холодным напитком, остался сидеть там до отхода. Я услышал шум мотора и ощутил легкую вибрацию стула подо мной, она передалась мне — до самых кончиков пальцев, прикасавшихся к стакану. Я сидел и смотрел в окна, заметил, что паром отошел, а мимо проплывали одетые соснами мысы и темные, округлые холмы на западе города. Я сидел спокойно, допил пиво. А потом заказал еще, ничего не стесняясь и не боясь, что кто-нибудь из наших меня увидит, хотя шансы быть замеченным здесь, на датском пароме из Кристиансанна, были куда больше, чем в какой-нибудь пивнушке в Осло. Я был один в баре, и судно еще не вышло из акватории фьорда. Я думал о папином автомобиле, запертом и стоящем где-то подо мной, я видел, как медленно проплыл мимо маяк на острове Уксёй, сразу за ним паром стало качать, и я понял, что передо мной открытое море.
Думаю, что мысль об автомобиле в совокупности с алкоголем, начавшим поступать в кровь, навела меня на воспоминания об одном осеннем дне из 1980-х, когда я собирался с папой на охоту.
День стоял у меня перед глазами во всех деталях, так же четко я помню его и сейчас.
Ранним утром в конце осени мы сидели вдвоем за круглым столом на кухне. Только он и я, да фырчанье кофеварки, и еще шипение молока, разогреваемого в кастрюльке. Только он и я, и хлебный нож, вгрызающийся уже в десятый раз в буханку серого хлеба, отрезающий пятый кусок сервелата, а вдобавок к ним четвертый листок бумаги, проложенный между двойными бутербродами, и третье яйцо, сваренное вкрутую. Только он и я, и желтоватое утро осеннего дня, и первые заморозки на траве под окном.
У каждого из нас свой мешок с складным стулом. Папа положил в мешки пакеты с едой, два термоса с кофе и какао, а под конец еще и плитку темного шоколада с аистом на обертке, аист стоит на одной ноге, опустив голову, словно спит или не желает ни на что вокруг себя смотреть. Затем он взял в коридоре ружье с деревянным прикладом, по которому волнами шли годичные кольца, и с узком черным дулом, в отверстие которого едва входил мой мизинец.
И вот мы вышли, и снаружи погода оказалось куда холоднее, чем я думал. От ветра саднило лицо, а сапоги оставляли черные следы на покрытой изморозью траве, но так и должно было быть. В лицо должен дуть ветер, и мешок должен стукаться и бренчать о бедро во время ходьбы. Все как положено, когда мороз уже пришел, и утро не ясное, а молочно-белое, как и тонкая корка льда на лобовом стекле, появившаяся в тот день впервые.
Потом я больше ничего не помню до того момента, когда мы сидим вдвоем в лесу. Мы где-то поблизости от Хюннешхэй, потому что, помнится, мы видели внизу озеро Хессванне, черное и неподвижное, между поросшими соснами мысами. Было по-прежнему холодно, но солнце стояло уже высоко над горами на юге, и изморозь на траве растаяла. Капли сверкали на длинных серых соломинах рядом с моими сапогами. Я сидел позади папы и мерз в коленках. Сидел тихо и совершенно неподвижно, точно как мне было сказано. Я украдкой наблюдал за папой, за ним и за ружьем, и у меня в голове не укладывалось, что мы сидим в лесу с заряженным ружьем и ждем. Должно быть по-другому. Нам надо быть в другом месте. Я должен сидеть с книжкой на кровати у себя в комнате, а папа — в гостиной и перелистывать книгу «Финсланн — хутор и род» или трилогию Тригве Гюльбранссена или просто быть на кухне и смотреть в окно. Да что угодно, только не быть здесь, в лесу, с заряженным ружьем на коленях. Не помню, сколько мы так просидели, скорее всего, не очень долго, как вдруг из подлеска выскочили два больших зверя. На расстоянии они двигались беззвучно и скользили, подобно лодке на большой скорости, мимо стволов деревьев, но, когда они приблизились, я услышал треск ломающихся веток, вереска, раздвигающихся кустов можжевельника и пригнутых к земле молодых березок. Папа поднял ружье и одновременно просвистел длинно и монотонно. Свист их остановил. Пожалуй, я никогда раньше не слышал, чтобы он свистел, и это так меня поразило, что я совсем забыл, что мне велено было закрыть руками уши. Он прицелился. Я вообще не думал, что у нас на глазах из лесу появятся звери, но уж если и появятся, то ни за что не остановятся. Но они остановились. Они возникли ниоткуда, остановились, папа целился, и все вместе казалось совершенно нереальным. Я не смотрел на животных, но знал, что они стояли неподвижно. Я смотрел на него. На затылок, на ухо, на щеку. И тут грохнуло. Оба зверя рванулись с места и исчезли за небольшой рощей. Я был уверен, что он промахнулся и что я оглох, потому что в ушах свистело или шумело где-то глубоко в голове, и я уже решил, что с этим шумом в голове мне придется жить до конца жизни. Тут он спокойно встал со своего стула, передернул затвор и сказал:
— Ну, теперь иди и посмотри.
— Так они же убежали, — ответил я.
— Пойди и посмотри, — просто ответил он.
— Куда? — сказал я.
— Просто иди, — сказал он. — Иди за ними.
Он поставил ружье на предохранитель, пока я с сомнением шел по высокой траве, перескочил через канаву и остановился на холме с густым мхом между деревьями.
— Ничего не видно, — крикнул я.
— Пройди еще вперед, — сказал папа.
Я прошел еще вперед по кочкам и оврагам, пересек сырое болотце и снова поднялся на горушку, с которой было хорошо видно все кругом.
Лось лежал всего в нескольких метрах от меня. На болотце. Неподвижно. С широко раскрытыми глазами. Блестящими как стекло.