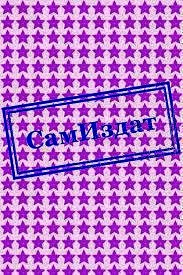Неповиновение (Disobedience) (ЛП) - Алдерман Наоми (читать книги без регистрации TXT) 📗
Я выбежала из-за гортензиевого куста обратно на кухню, оттуда в коридор, потом из дома. Я бежала и бежала, не зная, куда направляюсь; мне просто надо было куда-то двигаться. Сейчас я понимаю, что это было опасно, и мне повезло, что я врезалась всего лишь в дерево, а не в машину на дороге. Я ударилась об него локтем и сильно содрала кожу. Повернув руку, я увидела рану, и что из нее на землю капает кровь. За этим последовала боль.
Эсти и Довид догнали меня на моем пути в ванную. Эсти спрашивала:
- Болит? Я могу что-нибудь сделать?
Довид повторял:
- Надо позвонить твоему папе, Ронит. Может быть, это серьезно.
Я заперла дверь и выставила их наружу. Я помню, как кровь лилась в ванну пунцовыми каплями и превратилась в розовый вихрь, когда я включила воду. Помню, я плакала, совсем немного. Удивлялась, что я плачу. Смотрела на себя в зеркало над ванной, видела свое плачущее лицо и не узнавала собственное отражение.
Мне не наложили швов. Я промыла рану, наклеила пластыри и скрыла их под рукавом. К тому времени, как я вышла из ванной, Эсти уже не было. На следующий день уехал Довид. Рана заживала неровно, так и оставив в моем локте кусок древесной коры.
***
В первый день школы я ничего не сделала. Как и во второй и третий. Я не знала, почему. Не то чтобы Эсти знала, о чем я думала. Может, зная, что Бог следит за мной, я решила сбить его со следа и оставить несколько дней между причиной и следствием. Поэтому я отложила это на четвертый день после отъезда Довида. Я подождала, пока мы, сонные от жары, будем сидеть после школы в нашем секретном месте с голыми ногами и шеями.
- Эсти, - сказала я. – У меня есть новая игра.
Она моргнула.
- Ты должна лежать неподвижно, а я должна заставить тебя смеяться, ладно?
Она перелегла на бок, а я легла рядом с ней, не дотрагиваясь до нее, но чувствуя на своей коже теплоту ее тела. Я мягко погладила изгиб ее шеи от уха до плеча – щекотливое место. Она не двигалась и ничего не говорила. Я пробежалась пальцами вдоль ее руки, аккуратно касаясь тонких волосков. Она оставалась абсолютно неподвижной. Я подвинулась ближе, соприкоснувшись животом с ее спиной. Моя рука проскользнула под ее рубашку, а палец легко касался ее живота, и она по-прежнему не двигалась. Я начала думать, не вскочит ли она на ноги и обвинит меня в ужасных вещах. Я немного отодвинулась, чтобы посмотреть на ее лицо. Глаза были закрыты, а губы изогнуты в улыбке. Ее дыхание было медленным и неглубоким, а на щеках был румянец. Она открыла глаза, голубые, словно небо. И ее кожа, на животе и на бедрах, была такой мягкой, как кожа ребенка. Приятной, как вино. И ее губы раскрылись и издали вздох. И она повернулась и прильнула ими к моим.
Говорят, дерево несчастья вырастает из семени горечи и производит плоды отчаяния. Что бы было, не тронь я ее никогда? Может быть, она бы ушла к Довиду свободной как птица, не зная ничего другого. Если бы меня не существовало, нашла бы она покой? Если бы меня не существовало, как бы она вообще встретила Довида? Никто не может ответить на эти вопросы, ни я, ни она.
Мы, правда, не знали что делать, в тот первый раз. Наши руки неумело бродили, а щеки краснели. Но там, за гортензиевым кустом, мы научились. Мы переходили от одного к другому по мере желания и понимания. С того момента, как ее губы коснулись моих, мы знали, что преступили границы, и дороги назад не было. Все уже было сделано. Я помню ощущение ее прохладных пальцев на своей груди, щекочущих кожу, как шепот ветра. Я помню потрясение и жар. Я помню трепет наслаждения. Я помню только фрагменты.
В четверг мне приснился сон, который мне уже давно не снился, но который был знаком мне как мои пять пальцев. Мне снилось, что я готовилась к Шаббату, но опаздывала, очень опаздывала. У всех у нас есть такие сны – надо предложить д-ру Файнголд написать об этом книгу: «Тревожные сны ортодоксальных евреев, больше не практикующих евреев и еретиков».
Я была в незнакомом месте и пыталась добраться домой, но не знала как, а солнце уже заходило. Я мчалась по незнакомым, грязным улицам в поисках метро или такси. Но все такси были заполнены, а станции метро поблизости не было. Мне пришлось смотреть, как солнце окунается все глубже, пока оно не спряталось за горизонт. В конце концов, что терять? Я заметила рядом свой офис и решила зайти. Но, пройдя через дверь, я поняла, что это совсем не мой офис. Это был дом Эсти и Довида, и они, взгромоздившись на кухонный стол, целовались, как школьники.
В среду я пошла встретиться с Хартогом. Я показала ему свой билет, и он улыбнулся – улыбалось все его лицо, кроме глаз – и сказал, что я приняла мудрое решение. Мы направились к дому отца, и Хартог с надменным видом наблюдал, как я собирала нужные мне предметы: фотографии, бокал для кидуша, пасхальную тарелку. Под раковиной в кухне я нашла пакет и сложила все туда, укрывая от его взгляда. При выходе из дома я собралась взять пакет с собой, но он потряс головой, будто говоря с маленьким ребенком, и сказал:
- Нет-нет, Ронит. Я сопровожу тебя в аэропорт. Я прослежу, чтобы ты зарегистрировала багаж. Я прослежу, чтобы ты прошла через паспортный контроль. И только потом я отдам тебе пакет. Не раньше.
Он снова потряс головой, чуть посмеиваясь.
Желание ударить его лицо в тот момент било ключом. Я уже видела это. Его искривленный нос, кровь, стекающая по подбородку прямо на его желтый шелковый галстук. Я видела эту картинку четко и ясно, когда он закрыл дверь и потряс своими звенящими ключами прямо перед моим лицом.
Довид и Эсти на кухне вместе мыли посуду, болтая, смеясь и в шутку стряхивая друг на друга пену. Я сидела в гостиной и пыталась читать газету. И подумала: я заберу что-то с собой. Я не уеду ни с чем.
***
Итак, на следующее утро, в четверг, я сделала что-то плохое. Довид ушел рано на собрание совета синагоги. Я помню эти собрания: папа на них ходил. Четыре часа медленного обсуждения стариками одной и той же идеи. У меня было время. У Эсти была школа днем, но не утром. Мы с ней были в доме одни, но в ней не было страха. После возвращения Довида она была более расслабленной. Оно и к лучшему – так будет проще.
Я направилась в магазин. Я понимала свои намерения. Четко знала, что ищу. Я не допускала промахов. Я почувствовала, как чувство вины прильнуло к моему лицу, словно жар, когда я попросила нужный мне предмет, и голос в моей голове сказал: «Она не для тебя».
И я сказала: «Кажется, я уже сказала тебе заткнуться. Я думала, что убила тебя шоколадным пирогом и сэндвичами с креветками».
И голос сказал: «Нет».
И я сказала: «Ладно, говори что хочешь. Я не слушаю».
«Ты поступаешь неправильно», - произнес никто и ничто.
«Ой, что ты вообще знаешь? Она лесбиянка, это любому дураку видно. Она любит женщин. Если тебя так это беспокоит, почему ты не сделал ее натуралкой?»
«Мир не так просто разделить на категории, как ты думаешь, дорогая Ронит. И ты пытаешься украсть то, чего даже не желаешь».
«Ой, что ты знаешь о желании? Это наше занятие, не твое. И что значит “украсть”? Я первой ее нашла».
«Детские игры, дорогая моя. Ты стоишь большего».
И я сказала: «Я опущусь так низко, как сама захочу, потому что я больше не должна тебя слушать. Я научилась не повиноваться».
И голос говорил что-то еще, но я не слушала.
***
Я прокралась в дом и прислушалась. Глубокая, пронзительная тишина. Я почти слышала, как мельчайшие пылинки в коридоре мягко оседают на декорацию из засушенных цветов, стопку писем, обувь, стоящую в ряд у стены. Где она может быть? Шум из кухни, звук поставленного на стол стакана. Конечно. Я повернула ручку двери. Вот и она, у раковины, смотрит из окна на сад, волосы собраны в свободный пучок, мягкие завитки на шее. Я понаблюдала за ней пару секунд. Забавно, но я и забыла, какая она красивая. В ней была некая чувственность и изящность: в линии подбородка, в изгибе груди. В тот момент я это почувствовала. Я хотела того, что решила.