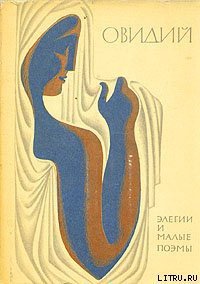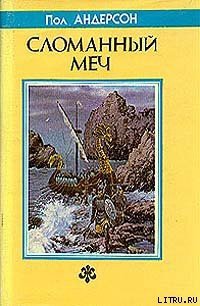Овидий в изгнании - Шмараков Роман Львович (книги без регистрации бесплатно полностью .TXT, .FB2) 📗
Статуэтка идет по рукам, все оценивают нежную плоть жертвы, переданную средствами чугунного литья, и понимающе глядят в сосредоточенное лицо Плутона с упомянутыми складками.
— «Вид на группу слева, — диктует меж тем Дисвицкий, — представляет бурную борьбу, с поднятой на воздух Прозерпиной и сильным и быстрым шагом левой ноги Плутона. Фронтальный вид дает картину уверенного триумфа, с трофеем, поднятым на плечо, а при положении зрителя справа видны слезы Прозерпины и ее тщетная мольба к небесному отцу, без чьего согласия этот брак не мог состояться; ветер бурно свивает ей волосы, и адский страж лает тремя глотками у ее ног, барахтающихся на воздухе. Последовательные моменты мифа, таким образом, синтезированы в едином образе».
Валентин Михайлович между тем фотографирует каслинский чугун в указанных ракурсах.
— Тоже мне, серия синтетических моментов, — бурчит он. — Расчлененку трудней снимать.
Дисвицкий оборачивается на это его замечание.
— И ты, Валентин Михайлович, — говорит он, — не избежал надменья, свойственного специалистам. Смирение, смирение и непрестанная рефлексия — вот к чему я хотел бы тебя призвать, если б ты имел благоразумие слушать мои советы. Еще Бернини указывал, что знающий скульптор — вещь гораздо более редкая и драгоценная, чем хороший фотограф-криминалист. «Если его величеству христианнейшему королю Франции понадобится достойно сфотографировать труп, — говорил он г-ну Шантелу, — он даст указание канцлеру Сегье или государственному секретарю г-ну де Ля Врильеру, и назавтра в его распоряжении будет столько фотографов, что труп, осчастливленный вниманием его величества, может быть совершенно уверен в своей будущности. Если же его величеству захочется иметь свой скульптурный портрет, то, несмотря на множество дарований, прославивших Французское королевство, среди которых заслуженно блещут господа Куазево, Тюби, Реньоден, наконец, и г-н Жирардон — смею полагать, несколько обязанный нашему с ним общению, — его величество, тем не менее, по рассуждении сочтет необходимым призвать из Рима скромные способности кавалера Бернини».
— Ну, это не довод, — возражает убойный отдел. — Мало ли кого много, а кого мало. Вон, Дарьи Семеновны, бухгалтера, как удивительно много, а это не значит, что она нам не ценна.
— Безусловно, это не довод, — соглашается Дисвицкий, — потому Бернини и высказал его в первую очередь. Настоящий довод всегда стоит на последнем месте. Это как разведчик приходит вроде за таблеткой аспирина, а на самом деле из совершенно иных соображений, но все потом помнят про таблетку, потому что он о ней спросил, когда уже влезал в ботинки «Скороход» хозяйской ложечкой. «Кроме того, — сказал Бернини, — фотограф имеет случай совершенствоваться во время работы, наблюдая за освещением, компоновкой сцены, воздушной перспективой и прочими вещами; и когда он, окончив работу и равнодушно покинув свой полуразрушенный труп в добычу суетливым червям и наследникам, исследует, озаренный багровым светом, результаты фотосессии, он говорит в сердце: „Да, вот это мне удалось впервые, а вот здесь я с пользой упражнял прежние навыки“. Напротив, скульптор, завершив с величайшим тщанием работу, смотрит на нее и говорит: „Здесь нет ничего, о чем я не знал бы, когда начинал эту статую“. В самом деле, какие бы тайны ремесла ни открылись ему, он уже не учтет их, ибо не может отказаться от первоначальной планировки группы». Из этого следует, что познания, обретенные в работе над изваянием, украшают лишь следующую работу, как беззаботного наследника бережливой родни: «Так-то ваше — не вам», сказал Вергилий.
— Фотографии — это тоже трудно, — обиженно возражает Валентин Михайлович. — И освещение подбери, и чтоб руки не дрожали, и давить на кнопочку только в промежутке между ударами сердца, чтоб не промазать по объекту, да еще такие есть, что больше сорока минут сниматься отказываются…
— По-моему, ты меня не слушал, — говорит Дисвицкий. — Разве кто-нибудь утверждал, что фотографии — это легко? Речь не об этом. Когда у тебя сын просит денег на карманные расходы, ты ему сколько даешь?
— Мало, — с твердостью говорит Валентин Михайлович. — Самому пора зарабатывать.
— Ну вот. В нашем случае группа «Аполлон, преследующий Дафну», справедливо славящаяся и рисунком, и соразмерностью, и выражением лиц, и изысканностью частей, должна немалую долю славы «Похищению Прозерпины». В свою очередь, твой сын, начав зарабатывать, будет с унаследованной от тебя разумной умеренностью финансировать легкомысленное веселье твоих внуков. Это и есть прогресс в скульптуре. Впрочем, кавалер Бернини не меньше думал о назидательности, какую можно почерпнуть из сравнения этих двух историй.
— Рост неуклонного насилия в обществе? — догадывается Петя.
— Не совсем. Дафна, избегая Аполлона, могла превратиться в лавр. Прозерпина, томясь в твердых объятиях дяди, не могла освободиться, сбросив свою идентичность. Благодетельная способность перестать быть собой — привилегия смертных, богам недоступная. И Кианея, обреченная быть клубом стареющих рыболовов и бесплатным катком на зимних каникулах, и Сирены, бессвязно жалующимся девичьим ртом грызущие полуживую сельдь в крючковатых лапах, — все они счастливей Цереры, которой величавая слава законодательницы не выкупит слез и пеней обездоленной матери. Мы способны на самозабвение — но боги, давшие нам эту способность, создали ее из ничего, ибо сами ее лишены.
— Это в протокол заносить? — спрашивает Петя.
— В общем виде, — говорит Дисвицкий. — Как предварительные выводы при осмотре трупа.
— При чем тут этот солипсизм? — неприязненно спрашивает Валентин Михайлович. — У нас мозги по полу, даже ногами ходить неприятно, а ты, Платон, братьев Гримм разводишь в протоколе.
— При чем? — переспрашивает Дисвицкий и обращается к убойному отделу: — Коллеги, я хочу вас попросить об одной вещи. Вы мне позволите небольшую историю, чтоб ответить на повисшую в воздухе, сладковатом от невольно присутствующего В. А. Недоручко, претензию Валентина Михайловича?
— Не вопрос, — отвечает убойный отдел, который, в отличие от Пети, не впервые видит Дисвицкого на месте действия и потому предвкушает забаву.
— Спасибо. Так вот. В конце 1630-х годов, когда кавалер Бернини, закончив прославленный фонтан Тритона и торжественно открыв его для всеобщего обозрения, работал в своей мастерской над бюстом его святейшества папы Урбана VIII, Рим — этот «улей Барберини», по выражению кого-то из острословов, — был растревожен происшествием, которое казалось не только из ряду вон выходящим, но и не сулившим Городу ничего хорошего. Именно, на пьяцца Барберини, близ только что открытого фонтана, найден был поутру проходившими торговцами плававший в луже крови труп богато одетого человека, который к полудню был опознан кем-то из папских секретарей как проживавший в Городе уже несколько месяцев г-н де Нуайе, брат суперинтенданта построек при дворе короля Франции. В грудь г-на Нуайе был глубоко вогнан кинжал, о котором было установлено, что покойный, отличавшийся разборчивым вкусом в отношении оружия, купил его несколько недель назад в одной лавке в Трастевере. Кроме того, в некотором отдалении от тела валялась испачканная докатившейся до нее кровью бархатная полумаска. Следственные действия, направленные на поиск свидетелей, не дали почти ничего: установлено было, что г-н Нуайе находился в обществе друзей до часа вечерни, после чего удалился, извинившись неотложными занятиями, и его дальнейшие действия, вплоть до того предутреннего часа, когда его тело остывало пред выпуклыми глазами каменных дельфинов Бернини, а душа давала отчет перед престолом нелицеприятного Судии, оставались неизвестными. Дело, быстро дошедшее до самого папы, оставило его в крайней досаде и огорчении, ибо г-н Нуайе, по-видимому живший в Риме для собственных надобностей, имел некоторые особые поручения к его святейшеству от кардинала Ришелье, в частности касавшиеся недавнего ареста аббата Сен-Сирана, относительно которого его высокопреосвященство намеревался разъяснить свои резоны его святейшеству и заручиться его согласием, с тем чтобы упорствовать в принятых мерах. Последовавшая гибель г-на Нуайе могла быть воспринята кардиналом, чьи сношения с апостольским престолом не были свободны от обоюдной подозрительности, как характерный для итальянцев способ ответа на неуместные притязания. В этих обстоятельствах едва ли что-либо, кроме быстрых успехов следствия, могло выглядеть для французской стороны свидетельством добрых намерений. Руководивший следствием Сальвестро Торнабуони получил от его святейшества подробные инструкции, заключившиеся плавтовским стихом: «Берегись, чтоб сыск не слать мне по тебе!» (sed tu cave inquisitioni mihi sis). Мессер Сальвестро, умевший достойно оценить это отеческое предостережение, за всем тем оставался в сомнении, как привести к разрешению дело, выглядевшее столь безнадежным, пока навестивший его г-н де Лионн не дал ему дружеского совета побыстрей посетить даму, для которой покойный г-н Нуайе снимал на Капитолии небольшой дом близ лестницы Арачели и которую в узком кругу представлял как г-жу Нуайе. На вопрос мессера Сальвестро г-н де Лионн отвечал, что не имел случая быть знакомым с семейством г-на Нуайе на родине, поэтому именно так выражается о даме, известной ему как г-жа Нуайе. Полицейские чиновники, посланные в указанный дом, обнаружили следы спешных сборов и сбитого с толку хозяина дома, заставшего поутру не более того, что увидели они. Соседи отвечали, что супруги, снимавшие этот дом, жили благопристойно, никого не беспокоя и мало кого принимая, а наемные слуги говорили, что не видели ни господина, ни госпожу с вечера того дня, когда неизвестные дела, оторвав г-на Нуайе от непринужденного дружеского общения, погнали его навстречу судьбе, прогуливавшейся в его ожидании по обезлюдевшей пьяцца Барберини.