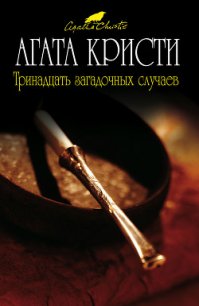Планета мистера Сэммлера - Беллоу Сол (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
— Кого я вижу! Мой дорогой тесть!
Отчего Эйзен так сиял — от удовольствия при виде Сэммлера или само пребывание в Нью-Йорке (впервые в жизни) делало его счастливым? Он был весело возбужден, но скован в движениях — его новый американский костюм слегка жал ему под мышками и в шагу. Уоллес, по всей видимости, таскал его уже по этим отвратным магазинам мужских мод типа Варни. А может, водил в один из магазинов, где торгуют одеждой унисекс. Этот псих уже напялил карминно-алую рубаху и повязал вокруг шеи ядовито-оранжевый галстук толщиной с бычий язык. Нескончаемо звучал его наводящий тоску смех, ярко сверкали его отличные зубы, не поврежденные сталинградской осадой, не тронутые голодом, пока он пробирался по Карпатам и Альпам. Такие зубы заслуживали более разумной головы.
— Как приятно опять с вами встретиться, — сказал Эйзен Сэммлеру по-русски.
Сэммлер спросил по-польски:
— Как вы поживаете, Эйзен?
— Вы не захотели навестить меня в моей стране, так я приехал повидать вас в вашей, — сказал Эйзен.
Так начать разговор, типично по-еврейски, с упрека, мог любой нормальный человек. Дальше пошло хуже. «Я приехал в Америку, чтобы начать новую карьеру». Он сказал это по-русски: карьера. Затянутый в тесные джинсы — конечно, пользуясь его неопытностью, ему всучили какую то старую заваль, — сверкая переливами карминно-алым, ядовито-оранжевым и томатно-бурым (на ногах красные английские башмаки до щиколоток), с гривой давно не стриженных кудрей, стекающих на плечи и нахально сводящих на нет шею, он, несомненно, стремился приобрести новый облик, переосмыслить свое бывшее Я. Он больше не был жертвой гитлеровского и сталинского режимов; умирающим от голода костлявым существом, не имевшим ничего, кроме хромоты, безумия и лихорадки, которого когда-то вывезли из лагеря на Кипре, выбросили в израильские пески, а затем обучили языку и ремеслу. Но кто может указать выздоравливающему, где ему следует остановиться? Теперь он стремился стать художником. Избежав уничтожения, перестав быть пушечным мясом, а то и просто объектом для удара по голове киркой или ломом (Эйзен рассказывал, что сам видел это прежде, чем перебрался с территории, оккупированной нацистами, в русскую зону: людей незначительных, не стоящих того, чтоб на них тратить пулю, убивали просто ударом лопаты), он желал подняться выше — к господству над миром. С помощью своего искусства. Он хотел вдохновенно обратиться к человечеству. Указать ему путь на универсальном языке цветов и красок. Ура, слава Эйзену, порхающему с вершины на вершину! Пусть краски его палитры были серее свинца, чернее угля и краснее скарлатинной сыпи, пусть его наброски с натуры были дважды мертвы, все равно автобус, который привез его из аэропорта Кеннеди, казался ему лимузином, толпы на шоссе приветствовали его, как славного астронавта, и он созерцал свою Карьеру, сверкая влажной многозубой улыбкой, полыхая в отчаянном экстазе. (Ибо, что может быть лучшей парой русской Карьере, чем истинно русский Экстаз?)
Они с Уоллесом уже затеяли какой-то совместный бизнес. Эйзен начал рисовать ярлыки для кустов и деревьев. Они показали Сэммлеру образцы ярлыков: «Quercus» и «Ulmus», выведенные жирным витиеватым готическим шрифтом. Другие надписи, сделанные с иностранным наклоном, которому Эйзен научился в гимназии, выглядели аккуратнее. Эйзен был школьником, когда началась война, и высшего образования не получил. Сэммлер постарался сказать что-нибудь безобидное и соответствующее, хотя мазня Эйзена вызвала у него отвращение.
— Все это еще нужно подправлять и переделывать, — сказал Уоллес, — но идея сама по себе удивительно хороша. Как раз для зелени, правда?
— Ты что, всерьез собираешься этим заняться?
Уоллес ответил решительно, с некоторой даже язвительностью (показав при этом ямочку на щеке) по поводу сомнений старика:
— Очень даже всерьез, дядя. Более того, завтра я собираюсь попробовать несколько самолетов в Вестчестере. Я возвращаюсь сегодня ночью на старую квартиру.
— А твои права пилота все еще действительны?
— А чего им быть недействительными?
— Что ж, это должно быть очень увлекательно и приятно — начинать новое дело с друзьями и родственниками. А что у вас здесь, Эйзен?
На запястье Эйзена, прикрученная шнуром, болталась тяжелая брезентовая сумка.
— Здесь? Некоторые мои работы в разной стадии завершенности, — ответил Эйзен. Он опустил сумку с размаху на стеклянную крышку стола, сумка забренчала, загрохотала и опала.
— Ты что, делаешь пресс-папье?
— Это не пресс-папье. Конечно, вы можете употреблять их для этой цели, уважаемый тесть, но вообще-то это медальоны.
Обидеть Эйзена было невозможно, он получал такое удовольствие, говоря о своих творениях. Он начал закатывать глаза и показывать свои несравненные зубы, словно вдыхал какое-то ароматическое снадобье, приглаживая ладонями кудри над ушами.
— Я изобрел кое-что для улучшения процесса литья, — сказал он.
Он пустился было в технологические объяснения на русском языке, но Сэммлер перебил его:
— Ты напрасно тратишь время, Эйзен. Я не знаю этой терминологии.
Металл был шероховатый, цвета бронзы с примесью бледной желтизны, подцвеченный сульфидами под фальшивое золото. Эйзен сделал обычный израильский набор: звезды Давида, ветвистые семисвечники, свитки и бараньи рога, или кричащие надписи на иврите: «Нахаму!» [2], или заповедь Бога Иисусу Навину: «Хазак!» [3] С некоторым интересом Сэммлер разглядывал шероховатые матово поблескивающие куски металла, которые Эйзен выкладывал перед ним на стол. И после каждого куска — напряженная пауза: глаза бегают по лицам зрителей в расчете на немедленный восторг. Восторг от вида этих металлических осколков, место которым на дне Мертвого моря.
— А это что, Эйзен, танк, что ли? Шермановский танк?
— Это метафора танка. Я не признаю в своей работе никакого реализма.
— Кто же нынче бредит попросту! — сказал мистер Сэммлер по-польски. Это замечание прошло незамеченным.
— Может, надо было отполировать получше? — сказал Уоллес. — А что значит это слово?
— «Хазак, хазак», — сказал Сэммлер. — Это приказ, который Бог отдал Иисусу Навину под Иерихоном: «Мужайся!»
— «Хазак, ве-эмац», — сказал Эйзен.
— А, ну да… А зачем Богу понадобилось говорить таким забавным языком? — сказал Уоллес.
— Я принес эти медальоны кузену Элии — пусть посмотрит.
— Глупости, — сказал Сэммлер. — Элия болен. Ему не удержать эти тяжелые металлические штуки.
— Нет-нет. Я буду сам показывать, по одному. Я хочу, чтобы он увидел, чего я достиг. Двадцать пять лет назад я приехал в Эрец полным ничтожеством. Но я не могу так умереть. Я не мог позволить себе закрыть глаза, пока я не создам чего-нибудь, достойного человека, чего-нибудь важного и значительного.
Сэммлер не решился возражать. В конце концов, он не был таким уж бессердечным. Более того, он был воспитан в старинных принципах вежливости. Почти так же, как женщины некогда воспитывались в чистоте и благонравии. Приученный издавать одобрительные звуки при виде хлама, который Шула откапывала на свалках, он и тут пробормотал нечто неопределенное и сделал жест рукой, но все же добавил, что Элия очень-очень болен. Эти медальоны могут утомить его.
— Я не согласен, — сказал Эйзен. — Напротив. Какой может быть вред от искусства?
Он стал складывать звякающие штучки обратно в сумку.
Уоллес сказал, обращаясь к кому-то за спиной Сэммлера: «Он здесь». В приемную вошла медсестра.
— Кто — он?
— Вы, дядя. Это мистер Сэммлер.
— Что, Элия спрашивает обо мне?
— Вас вызывают к телефону. Вы — дядя Сэммлер?
— Простите? Я — Артур Сэммлер.
— Некая миссис Эркин просит вас с ней связаться.
— А, Марго! Она что, позвонила в палату к Элии? Я надеюсь, она не разбудила его?
— Она позвонила не в палату, а дежурной сестре.
2
«Утешайте!»
3
«Мужайся!»