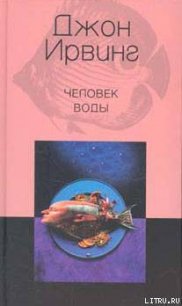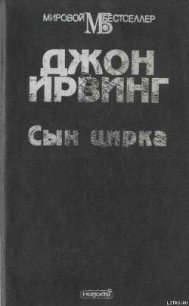В одном лице (ЛП) - Ирвинг Джон (книги онлайн полностью .txt) 📗
— У меня по соседству есть одно заведение, — сказала Эсмеральда. — Можем пойти туда, а потом проводишь меня домой.
К нашему обоюдному изумлению, оказалось, что мы живем в одном районе — по ту сторону Рингштрассе, за пределами центрального района, поблизости от Карлскирхе. На углу Аргентиньештрассе и Швиндгассе находился кафе-бар — такой же, как сотни других в Вене. Он совмещал в себе бар и кофейню; когда мы сели, я сообщил Эсмеральде, что тоже живу неподалеку. (Я часто приходил сюда писать.)
Так мы начали описывать друг другу наши далекие от совершенства ситуации с жильем. Выяснилось, что оба мы живем на Швиндгассе, в одном и том же доме. Жилье Эсмеральды было больше похоже на нормальную квартиру. У нее была спальня, собственная ванная и крохотная кухонька, но прихожая была общая с хозяйкой; почти каждый вечер, возвращаясь домой, Эсмеральде приходилось проходить через гостиную хозяйки, где эта сварливая пожилая дама уютно сидела на диванчике со своей маленькой сварливой собачкой. (Они всегда смотрели телевизор.)
Бормотание телевизора постоянно просачивалось в спальню Эсмеральды, где она слушала оперы (в основном немецкие) на старом граммофоне. Ей велено было слушать свою музыку тихонько, хотя «тихонько» оперу слушать невозможно. Оперы звучали достаточно громко, чтобы заглушить звук хозяйского телевизора, и Эсмеральда слушала и слушала немецкие голоса, и пела сама — тоже тихонько. Как она мне сказала, ей нужно было поработать над своим немецким произношением.
Поскольку мне самому не помешало бы поработать над грамматикой и порядком слов — не говоря уже о словарном запасе, — я сразу же понял, как мы с Эсмеральдой можем помочь друг другу. Произношение было единственным, в чем мой немецкий был лучше, чем у Эсмеральды.
Другие официанты в «Цуфаль» старались меня подготовить: осень закончится, придет зима и туристы разъедутся — и настанут вечера, когда в ресторане не будет англоговорящих клиентов. И лучше бы мне подтянуть мой немецкий до начала зимы, предупреждали они. Австрийцы не особенно приветливы к чужестранцам. В Вене слово Ausländer (иностранец) всегда имело негативный оттенок; все местные жители были немного ксенофобами.
Сидя в кафе-баре на Аргентиньештрассе, я начал описывать Эсмеральде свою ситуацию с жильем — на немецком. Мы уже решили говорить друг с другом по-немецки.
Эсмеральда носила испанское имя — на испанском оно означает «изумруд», — но она не говорила по-испански. Ее мать была итальянкой, и Эсмеральда говорила (и пела) на итальянском, но чтобы петь в опере, ей нужно было поработать над немецким произношением. Она сказала, что в Штаатсопер ее положение дублерши сопрано, «запасного» сопрано, как называла себя Эсмеральда, служит предметом насмешек. Если ее и выпустят когда-нибудь на сцену в Вене, то лишь в том случае, если их «основное» сопрано, как называла ее Эсмеральда, умрет. (Или если вдруг подвернется опера на итальянском.)
Даже сейчас, когда она рассказывала мне все это на грамматически безупречном немецком, я слышал в ее произношении явные кливлендские нотки. Учительница музыки в начальной школе Кливленда обнаружила у нее талант певицы; затем Эсмеральда получила стипендию в Оберлинском колледже. Первый год обучения за границей Эсмеральда провела в Милане; она стажировалась в Ла Скала и влюбилась в итальянскую оперу.
Но этот немецкий, сказала Эсмеральда, будто щепки во рту. Ее отец бросил их с матерью; он уехал в Аргентину, где встретил другую женщину. Эсмеральда заключила, что у женщины, с которой ее отец сошелся в Аргентине, по всей видимости, в предках были нацисты.
— Как еще объяснить, что я не могу справиться с произношением? — спросила меня Эсмеральда. — Я жопу рвала с этим немецким!
Я все еще размышляю над тем, что связывало нас с Эсмеральдой. У нас обоих сбежали отцы, мы жили в одном доме на Швиндгассе и обсуждали это в кафе-баре на Аргентиньештрассе — на ломаном немецком. Unglaublich! (Невероятно!)
Студентов Института расселили по всей Вене. Как правило, у постояльца была собственная спальня, но общая с хозяевами ванная; у поразительного числа наших студентов квартирными хозяйками были вдовы, и готовить на кухне квартирантам не разрешалось. Моя хозяйка тоже была вдовой, и у меня была собственная спальня, а ванную я делил с разведенной хозяйской дочерью и ее пятилетним сыном Зигфридом. На кухне постоянно кто-нибудь хлопотал, приводя ее в совершенный хаос, но мне разрешалось варить себе кофе, а в холодильнике я держал пиво.
Моя овдовевшая квартирная хозяйка регулярно плакала; днем и ночью она шаркала по квартире в разлезающемся махровом халате. Разведенная дочка была большегрудой женщиной с командирскими замашками; не ее вина, что она напоминала мне деспотичную тетю Мюриэл. Пятилетний Зигфрид смотрел на меня с демоническим прищуром; каждое утро на завтрак он съедал яйцо всмятку — вместе со скорлупой.
Когда я впервые увидел, как Зигфрид это проделывает, я тут же поспешил к себе в спальню и заглянул в англо-немецкий словарь. (Я не знал, как по-немецки будет «скорлупа».) Когда я сообщил матери Зигфрида, что ее пятилетний сын съел скорлупу, она пожала плечами и сказала, что, наверное, от нее пользы больше, чем от самого яйца. По утрам, когда я варил себе кофе и наблюдал, как малыш Зигфрид поедает свое яйцо всмятку, вместе со скорлупой, разведенка обычно выходила на кухню одетой в слишком большую для нее мужскую пижаму — по-видимому, принадлежавшую ее бывшему мужу. Расстегнутых пуговиц на пижаме всегда бывало чересчур много, и у матери Зигфрида была прискорбная привычка то и дело почесываться.
У нашей общей ванной была одна забавная особенность: в двери имелся глазок, скорее подходящий для входной двери в гостиничном номере. Поразмыслив, я решил, что глазок сделали затем, чтобы, выходя из ванной — полуголым или обернутым в полотенце, — жилец мог проверить, чист ли горизонт (другими словами, нет ли кого там снаружи). Но зачем? Кому и для чего нужно разгуливать голышом по прихожей, даже если в ней никого нет?
Еще таинственнее было то, что цилиндр глазка в двери ванной можно было перевернуть и поставить наоборот. Мало того, я обнаружил, что переворачивают его частенько — таким образом можно было заглянуть в ванную из прихожей и просто-напросто увидеть, кто там находится и что он делает!
Попробуйте-ка объяснить такое кому-нибудь на немецком, и сразу поймете, насколько хорошо или плохо вы знаете язык; но все это я умудрился каким-то образом рассказать Эсмеральде, по-немецки, на нашем первом свидании.
— Ни фига себе! — в какой-то момент рассказа воскликнула Эсмеральда по-английски. У нее была кожа цвета кофе с молоком и тончайшие, едва заметные усики над верхней губой. Волосы у нее были черные как смоль, и темно-карие глаза тоже казались почти черными. Ладони у нее были больше моих — она была и немного выше меня, — но ее грудь (к моему облегчению) была «нормальной» — что для меня означало «небольшой» в сравнении с ее крупным телом.
Ну ладно, все-таки скажу. Если мне трудно было решиться на секс с девушкой, то отчасти потому, что я обнаружил, что мне нравится анальный секс. (И еще как нравится!) Какая-то часть меня, несомненно, беспокоилась, каким же окажется вагинальное соитие.
Тем летом, когда мы были в Европе с Томом — когда бедный Том чувствовал себя таким беззащитным и уязвимым — а я всего-то поглядывал на девушек и женщин, — я раздраженно сказал ему: «Господи Иисусе, Том, ты что, не заметил, как мне нравится анальный секс? И как, по-твоему, я представляю себе вагинальный? Наверное, это как заниматься сексом с бальной залой!».
Конечно, слово вагинальный заставило бедного Тома тут же помчаться в ванную — я слышал, как его тошнит там. Но, хотя я просто шутил, бальная зала засела у меня в голове. А что, если вагинальный секс действительно такой и есть? И все же меня продолжало тянуть к крупным женщинам.
Наши далекие от совершенства ситуации с жильем были не единственным препятствием, стоявшим между мной и Эсмеральдой. Мы уже успели побывать в гостях друг у друга.