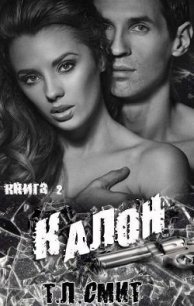Свидание в Самарре - О'Хара Джон (бесплатные полные книги .txt) 📗
— Я просто хотела убедиться. Шестьдесят галлонов бензина стоят немалые деньги, и мы не можем…
— Я знаю, Мэри. Вы правы.
От ее тона ему почему-то стало страшно, страшно так, будто он знал, что совершил дурной поступок. Чувство это было давнишнее, и он по-прежнему определял его фразой из детства: «…совершил дурной поступок». И не только от ее тона, но и от ее манеры держаться, хотя ничего нового в этом не было. Уже много недель, а может, и месяцев она вела себя, как учительница, намеревающаяся поговорить с ним о его учебе или поведении. Она была Права, а он был Неправ. Она была способна заставить его почувствовать себя вором, развратником (хотя, знает господь, он ни разу не попытался к ней приставать), пьяницей, бездельником. Она была истинной представительницей того слоя общества, из которого произошла: солидных, почтенных, среднего достатка пенсильванских немцев лютеранского вероисповедания, и, когда он думал о ней, когда ощущал ее присутствие или — особенно явственно — ее жизненные принципы, ему казалось, что в их маленькой конторе внезапно появилась целая толпа честных клерков, механиков, домашних хозяек, учителей воскресной школы, вдов и сирот — всех, кто живет на Христиана-стрит и, это ему было известно, втайне ненавидит его и других обитателей Лантененго-стрит. В их семьях могли быть незаконнорожденные дети, кровосмешение, хвори, супружеское скотство, жестокость к животным, бесчеловечное отношение к детям и все прочие распространенные пороки, но все вместе они являли собой тесный фронт солидных здоровых и трезвых пенсильванских немцев со всеми их достоинствами. Они ходили в церковь по воскресеньям, копили деньги, заботились о стариках, любили чистоту, увлекались музыкой, избегали ссор и умели отлично работать. И вот они сидели круглой спиной к нему, в коленкоровых нарукавниках, в аккуратной блузке, такой же свежей после пяти часов работы, как рубашка Джулиана после двух. И жалели о том, что этот превосходный бизнес не находится в руках одного из их соотечественников, а гибнет с помощью шалопая с Лантененго-стрит. Однако, как был вынужден признать Джулиан, Лют Флиглер тоже из пенсильванских немцев и тем не менее отличный парень. Раздумывая над этой Проблемой, Джулиан вернулся к своей старой теории: вполне возможно — а почему бы и нет? — что мать Люта переспала с каким-нибудь ирландцем или шотландцем. Придет же в голову такое о старой миссис Флиглер, которая-до сих пор пекла самые вкусные пироги из тех, что Джулиану довелось на своем веку отведать.
Время от времени Джулиан писал приходившие ему на ум цифры, делая вид, что занят, и надеясь произвести хорошее впечатление на Мэри Клайн. Лежавшие перед ним листки бумаги заполнялись аккуратными колонками цифр и знаков. Сложение, вычитание, умножение, деление…
Он это сделал. Зачем обманывать себя? Я знаю, он это сделал. Знаю, что сделал, и какие бы отговорки я себе ни придумывала или сколько бы я ни старалась убедить себя, что ничего не произошло, я все равно вернусь к тому же самому: он это сделал. И ради чего? Чтобы потешить свою похоть с женщиной, которая… А я-то считала, что это все позади… Неужели он не наразвлекался вдоволь до женитьбы? Он что, до сих пор считает себя мальчишкой? Или думает, я не могла бы тоже десятки раз так поступить по отношению к нему? Известно ли ему — да нет, конечно, неизвестно, — что из всех его друзей только Уит Хофман, могу сказать честно, ни разу не лез ко мне? Один-единственный. Ах, Джулиан, какой ты глупый, мерзкий, подлый и как я тебя презираю и ненавижу! Ты сделал это, я знаю, ты мне изменил! Я знаю! Ты сделал это нарочно. Зачем? Неужели только затем, чтобы отомстить мне? За то, что я не пошла с тобой в машину? Неужели после четырех с половиной лет брака ты настолько слеп, что не видишь, бывают дни, когда мне просто не нужна близость? Разве обязательно объяснять причину? Искать отговорку? Разве я должна всегда, кроме тех дней, когда чувствую себя плохо, быть готова к близости? Если бы ты соображал хоть что-нибудь, ты бы понял, что именно тогда я хотела тебя больше, чем когда-либо, но ты выпил и желал быть неотразимым. Чего ты не умеешь. Я думала, ты это уяснил себе. Оказывается, нет. И никогда не уяснишь. Люблю ли я тебя? Да, я тебя люблю. Все равно, что сказать: у меня рак. У меня рак. Если бы у меня был рак! Ты, очаровательный молодой человек, ты! Неотразимый юноша, включающий обаяние, как включают воду в ванне; включающий обаяние, как воду в ванне, включающий обаяние, включающий обаяние, включающий обаяние, как воду в ванне. Чтоб ты сдох.
Чтоб ты сдох, потому что ты убил во мне все прекрасное. Чтобы ты сдох. Да, сэр, так тебе и надо. Такое прекрасное, ах, Инглиш, бедный Инглиш, такое прекрасное! Ты убил прекрасное во мне или вообще прекрасное? Мне плохо, ужасно плохо. Мне так плохо, что хочется рвать. Правда, хорошо бы вырвать, но я ни за что не вылезу из постели. И если ты не перестанешь вести себя непристойно со слугами… Хватит болтать глупости. Интересно, почему хватит? Почему?
Пожалуй, лучше встать. Что толку валяться в постели и жалеть себя? Ничего в этом нет нового, интересного, увлекательного, необычного, — ничего. Я просто женщина, которой хочется умереть, потому что любимый человек причинил мне боль. Теперь мне все равно. Я ничего не чувствую. Так мне кажется. Нет, не чувствую. Я ничего не чувствую. Я просто женщина по имени Кэролайн Уокер, Кэролайн Уокер Инглиш, Кэролайн У.Инглиш, миссис Уокер Инглиш. Вот и все. Мне тридцать один год. Белая. Рост? Вес? Уроженка какого штата? Уроженка… Это слово мне всегда казалось и будет казаться смешным. Извини, Джулиан, просто мне оно кажется смешным, да и тебе тоже в те дни, когда ты носил итонский воротничок и уиндзорский галстук, и я любила тебя, я любила тебя тогда, я и сейчас люблю тебя, я люблю тебя и буду любить до конца дней моих или, как говорят, до гробовой доски. По-моему, я уже лежу в гробу, ибо от меня ничего не осталось. Ничего не осталось от былого, я живу только воспоминаниями и среди воспоминаний. Вот что ты наделал: ты взял нож и разрезал меня от горла, отсюда до сюда, а потом выбросил меня на мороз, и до самой своей смерти ты никогда, никогда не узнаешь, каково тебе, когда тебя разрезают, а потом выбрасывают на мороз. Надеюсь, ты не узнаешь, уверена, что никогда, любимый мой, потому что с тобой не должно случиться ничего плохого. «О, милочка Кэлли, пожалуй, я пойду, овцы на лужайке, лягушки в пруду».
— Нет, миссис Грейди, я полежу еще немного.
Всякий раз, когда Аль Греко входил в гараж, где Эд Чарни держал свои машины, ему обязательно вспоминалась фотография, которую показывал один тип с Запада. Вполне возможно, что большинству мужчин, занимавшихся тем же, что и Аль Греко, и их подруг, когда они заглядывали внутрь этого нарочито унылого гаража, тоже приходила на память эта фотография, ибо существовали тысячи ее копий. На фотографии была изображена группа мертвецов, но впечатление они производили весьма живое, ибо трупы их были обезображены. Это были жертвы убийства в день святого Валентина в Чикаго, когда у стены гаража, принадлежавшего гангстерам, одним махом прикончили семерых.
«Вот эта стена вполне бы подошла», — подумал Аль, отворяя ворота гаража.
Он поднялся наверх и снес оттуда ящик с шампанским. Потом снова поднялся наверх и снес ящик с виски. Погрузив оба ящика в серо-черный фургон, которым пользовались для доставки товара, он вывел машину задом на Рейлроуд-авеню, вылез и плотно закрыл ворота гаража. Но перед тем как закрыть, еще раз взглянул на противоположную стену.
— Да, это — стена что надо, — сказал он.
Он никому не позволит безнаказанно обзывать его так, как обозвал Эд Чарни. Даже Эду Чарни. Он подумал про свою мать с ее золотыми сережками в ушах и вспомнил, что у нее не было шляпы. Даже к воскресной мессе она ходила, покрыв голову шарфом. Как часто в далеком прошлом он упрекал ее за то, что ей лень научиться говорить по-английски, но теперь она представлялась ему доброй маленькой женщиной, у которой было слишком много забот, чтобы еще и учить английский язык. Она была чудесной женщиной, его мать, и, если Эд Чарни обозвал его сукиным сыном, плевать; обозвал его мерзавцем, тоже плевать. Это ведь только слова, которыми обзывают, когда хотят разозлить человека или когда сам зол как сто чертей. Эти слова ничего не значат, потому что, рассудил Аль, если твоя мать сука, а сам ты мерзавец, как тут оправдаться? А если нет, то это легко доказать. Что толку оправдываться? Но то, что стояло за этими словами, было по-настоящему обидно: «Послушай, ты, грязный итальяшка, я послал тебя туда следить за Элен. Ты мог и не идти, если не хотел. А что ты сделал? Ты предал меня, ты, сукин сын. Держу пари, что Инглиш, чтобы вывести ее из зала и позабавиться, дал тебе десятку, вот ты и сидел, не отрывая зада от стула, хотя взял у меня пятьдесят долларов. А я-то, дурак, думал, что мы с тобой ведем честную игру. Оказывается, нет. Ты нет. Мелкий ты жулик и мерзавец, вот кто ты. И сукин сын». И дальше в том же духе. Аль пытался объяснить, что она только танцевала с Инглишем, не больше, потому что на улице она пробыла недолго («Врешь, негодяй! Лис сказал мне, что ее не было полчаса»); что Инглиш был пьян и ни на что не способен («Не рассказывай мне про Инглиша. Он не виноват. Виноват ты. Ты знал, что я с ней сплю. Инглиш этого не знал») — и так далее. Аля здорово подмывало сказать Эду всю правду: захоти он обмануть Эда, он мог бы сам переспать с Элен. Но из такого признания ничего бы хорошего не вышло. Один вред. Эд и так был в бешенстве. Он дошел до того, что высказал это все Алю по телефону, из собственного дома, да еще, похоже, при собственной жене. Наверняка при жене. Если она была дома, то не могла не слышать его, так он орал. А Аль стоял, держа в руках трубку, и слушал, почти не отвечая. Сначала он был просто потрясен, когда его назвали предателем. В их общем с Эдом деле называть партнера предателем не следует. Если партнер виноват, лучше накажи его, а если не виноват, подобное оскорбление может навести его на кое-какие мысли. И сейчас, когда Аль припомнил, как оскорбил его Эд, в голове у него зародилась такая мысль. Он не стал строить планы, как поступить. Пока нет. Но что-то сделать придется. «Наверное, это будет — либо я, либо он», — сказал он, и перед глазами у него стояла стена в гараже.