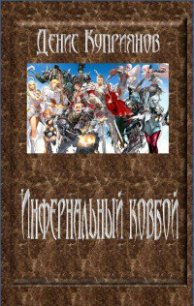Коллекционер - Фаулз Джон Роберт (электронные книги бесплатно txt) 📗
Хаотические эмоции. Все вверх ногами, словно перепуганные обезьянки в клетках. Прошлой ночью мне показалось, я схожу с ума. Взялась писать дневник и писала, писала, пока не очутилась в том, совершенно ином, мире. Совершила побег; если и не на самом деле, то хотя бы мысленно. Чтобы доказать себе, что тот мир все еще существует.
Делала наброски к картине, которую напишу, когда выйду отсюда. Вид сада через открытую дверь. На словах звучит глупо. Но я вижу эту картину совсем по-особенному, все черное, темно-коричневое, темное, темно-серое, таинственные угловатые формы в глубокой тени; они уходят вдаль, а там – мягкий, медово-белый прямоугольник открытой залитой светом двери. Нечто вроде горизонтально идущего шахтного ствола.
После ужина отослала К. прочь. Дочитывала «Эмму». Я Эмма Вудхауз. Сочувствую ей, чувствую как она, чувствую себя в ней. Мой снобизм – иной, чем у нее. Но я ее понимаю. Понимаю, откуда ее резонерство. Оно меня восхищает. Я понимаю, она поступает не правильно, пытается организовать жизнь других людей так, как ей представляется необходимым. Она не видит, что Найтли – человек, каких на миллион едва ли один найдется. Какое-то время она ведет себя глупо, но вот читаешь и постоянно чувствуешь, что по глубинной своей сути она умна, интеллигентна, полна жизни. Мыслит творчески, стремится все делать в соответствии с самыми высокими принципами. Настоящий человек. Ее недостатки – это мои недостатки. А ее достоинства... Мне еще надо добиться, чтобы и они стали моими.
И весь сегодняшний день не перестаю думать... Ночью снова буду писать о Ч.В.
Было время, я относила ему некоторые свои работы: пусть посмотрит. Отбирала те, которые, на мой взгляд, должны были ему понравиться (не просто те, что считались удачными-преудачными, вроде пейзажа Ледимонта со зданием школы вдали). Он их разглядывал молча, ни словечка не произнес. Даже когда увидел мои самые лучшие («Кармен в Ивинго») – во всяком случае, тогда я считала их самыми лучшими. В конце концов сказал:
– Не очень получилось. Мне так кажется. Но несколько лучше, чем я ожидал.
Это было – словно удар кулаком в лицо. Я не смогла скрыть этого ощущения. А он сказал:
– Какая польза от того, что я пощадил бы ваши чувства? Я же вижу, вы – прекрасный рисовальщик, обладаете вполне приличным чувством цвета, вкусом; вы впечатлительны и чутки. Все это есть. Но не будь этого, вы не попали бы к Слейду.
Мне хотелось, чтобы он замолчал. Но он не останавливался.
– Вы – это совершенно ясно – видели и знаете множество замечательных полотен. И пытаетесь избежать слишком явного плагиата. Но возьмите этот портрет вашей сестры – это же Кокошка, во всяком случае, весьма похоже.
Наверное, он заметил, как я покраснела, потому что сказал:
– Рушатся иллюзии? Я этого и хотел.
Я была совершенно убита. Конечно, он был прав: было бы на самом деле смешно, если бы он сказал вовсе не то, что думал. Если бы принялся играть роль доброго дядюшки. Но его слова причиняли такую боль! Будто он хлестал меня по щекам: рраз, рраз... Я ведь решила, что ему обязательно понравятся хотя бы некоторые мои работы. А еще хуже мне было от его ледяного спокойствия. Он казался холодно-серьезным, словно историю болезни читал. В голосе – ни тени юмора или жалости; ни даже саркастической усмешки на губах. И стал вдруг много, очень много старше меня.
Он сказал:
– Со временем понимаешь, что способность хорошо писать – в академическом, в техническом смысле – идет последним номером в списке. Я хочу сказать, вы обладаете этой способностью. Как и тысячи других. Но ведь я не этого ищу в ваших работах. И того, что я ищу, в них нет.
Потом добавил:
– Я знаю, вам сейчас очень больно. Кстати говоря, я чуть было не попросил вас не приносить мне ваши работы. Потом подумал... в вас есть какое-то нетерпение, некая устремленность... Вы выдюжите.
Я сказала, вы знали, что ничего хорошего не увидите.
Ответ был почти предсказуем:
– Забудем, что вы их сюда приносили?
Но я знала – это вызов. И протянула ему один из листов (это была уличная сценка). Объясните в деталях, почему это не годится.
Он сказал:
– Графически здесь все в порядке, композиционно сделано хорошо; я не могу разбирать это все в деталях. Но это – не живое искусство. Не часть вас самой, не орган вашего тела. Я не думаю, что вы, в вашем возрасте, сможете это понять. Этому нельзя научить. Оно либо придет к вам когда-нибудь само, либо нет. У Слейда вас учат выражать личность – личность вообще. Но как бы хорошо вы ни научились выражать личность в линии и цвете, ничего не получится, если личность эту незачем выражать. Риск огромный. Редко кому везет.
Он говорил неровно, отрывочно. Потом совсем умолк. Я спросила, что же мне, все это порвать?
– Не надо истерики, – ответил он. А я сказала, мне еще так много надо узнать.
Он встал.
– Я думаю, в вас есть что-то... Не знаю. С женщинами это редко случается. Ну, я хочу вот что сказать. Большинство женщин стремятся к тому, чтобы уметь что-то делать хорошо. При этом они имеют в виду хорошие руки, чутье и вкус, все в этом роде. И не способны понять, что, если ты стремишься дойти до самой глубинной своей сути, форма, в которую выливается твое искусство, для тебя совершенно не имеет значения. Не важно, будут это слова, краски или звуки. Все, что угодно.
Я сказала, продолжайте.
– Это все равно что твой собственный голос. Каким бы он ни был, ты миришься с ним и говоришь как можешь, ибо у тебя нет выбора. Но важно, что ты говоришь. Именно это отличает великое искусство от всего остального. Шельмецов, овладевших техникой письма, во все времена хватало, а в нынешний благословенный век всеобщего универсального образования – и подавно.
Он сидел на диване и обращался к моей спине: я смотрела в окно, не могла повернуться. Боялась, что разревусь.
– Критики обожают рассуждать о высочайших достижениях в технике письма. Совершенная бессмыслица, пустой жаргон. Искусство жестоко. Слова могут помочь вам избежать наказания, даже если вы совершили убийство. Но картина... она словно окно в самую глубь, в святая святых твоей души. А вы здесь понастроили оконца, в которые всего-то и видны картины известных художников.
Он подошел и встал рядом и выбрал один из этюдов, абстрактный, я писала его еще дома.
– Здесь вы говорите кое-что о Никольсоне или Пасморе. Не о себе. Вы словно работаете с фотоаппаратом. И как tromрe l'oeil – всего лишь сбившаяся с пути фотография, так и использование чужого стиля в живописи есть простое фотографирование. Вы здесь фотографируете. Всего-навсего.
– Я никогда не научусь.
– Да вам теперь надо разучиться, – сказал он. – Вы почти всему уже научились. Остальное зависит от везенья. Впрочем, не только. Нужно мужество. И терпение.
Мы говорили часами. Говорил он. Я слушала.
Это было словно ветер и солнечный свет. Сдувало всю паутину и освещало все вокруг. Теперь, когда я записываю то, что он говорил, все это кажется самоочевидным. Но дело в том, как он говорил. Из всех, кого я знаю, кажется, только он говорит именно то, что думает, когда рассуждает об искусстве. Если бы в один непрекрасный день он вдруг заговорил иначе, это прозвучало бы как кощунство.
А ведь он – на самом деле очень хороший художник, и я уверена, когда-нибудь станет по-настоящему знаменит, и это имеет для меня огромное значение, гораздо большее, чем следовало бы. Оказывается, мне важно не только то, какой он сейчас, но – каким будет.
Помню, позже, через какое-то время, он сказал (снова в стиле профессора Хиггинса):
– Не думаю, что из вас выйдет что-нибудь путное. Ни капли надежды. Вы слишком красивы. Ваша стезя – искусство любви, а не любовь к искусству.
Я ответила, иду на пруд, топиться.
А он продолжал:
– Замуж не выходите. Устройте себе трагическую любовь. Или пусть вам придатки вырежут. Или еще что-нибудь в этом роде. – И выдал мне такой злющий взгляд – он умеет вот так, по-настоящему зло взглянуть, исподлобья. Но на этот раз взгляд был не просто злой. Еще и испуганный, как-то совсем по-мальчишьи. Как будто он сказал то, чего вовсе не следовало говорить, и знает, что не следовало, но уж очень ему хотелось увидеть мою реакцию. И в этот момент он показался мне гораздо моложе, чем я.